И все же любой институт сохраняет и всегда будет сохранять некую живучую память о собственном прошлом. Казарму до сих пор преследует призрак Киплинга, а в работный дом трудно войти, не вспомнив об «Оливере Твисте». Поначалу больницы возникали как некое подобие импровизированных помещений, где кончают свои дни прокаженные и другие больные; затем они превратились в места, где студенты-медики осваивали профессию, используя в качестве учебного материала тела бедняков. Даже в наши дни, глядя на характерные в своей унылости архитектурные формы больниц, смутно улавливаешь отголоски их истории. Я далек от того, чтобы жаловаться на уход в больницах Англии, где мне доводилось лежать, но твердо знаю, что живет в людях укорененный инстинкт, заставляющий по возможности держаться от них подальше, особенно если это больницы бесплатные. Независимо от того, законно это или нет, представляется несомненным, что в ситуации, когда выбор у тебя лишь один: «следовать правилам или убираться вон», ты в большой степени утрачиваешь контроль за своим лечением, не говоря уж об уверенности, что над тобой не будут проделывать всякого рода смелые опыты. И это большое везение – умереть в собственной постели, хотя еще лучше умереть на ходу. Пусть к тебе относятся со всевозможным вниманием, пусть врачи – мастера своего дела, смерть в больнице всегда будет отягощена какими-нибудь дурными, отталкивающими обстоятельствами, какими-нибудь деталями, пусть даже настолько мелкими, что о них говорить не стоит, однако же оставляющими по себе исключительно тяжелые воспоминания, – всем тем, что возникает из-за спешки, тесноты и полной безликости того места, где каждый день люди умирают в окружении незнакомцев.
Вероятно, среди бедных страх перед больницей сохраняется и поныне, да и все мы лишь недавно избавились от него. Это темное пятно, расплывающееся где-то неподалеку от поверхности нашего сознания. Я уже упоминал, что, оказавшись в палате больницы Х, испытал странное ощущение, что все это мне уже знакомо. Конечно же, она напомнила мне о затхлом воздухе и человеческой боли, разлитых в больницах ХIХ века, в которых я никогда не бывал, но представление о которых передалось мне через поколения. И кто-то или что-то – быть может, одетый в черное врач со своим старым черным чемоданчиком или тошнотворный запах – неким загадочным образом извлекли из глубин моей памяти строки поэмы Теннисона «В детской больнице», которую я не открывал лет двадцать. Вышло так, что в детстве ее читала мне вслух сиделка, чья трудовая жизнь, возможно, начиналась как раз когда Теннисон писал эти стихи. Кошмар и страдания, которые испытывали люди в тех старых больницах, все еще живо хранились в ее памяти. Мы вместе содрогались над этими строками, а потом я, кажется, напрочь забыл их. Даже название скорее всего ничего бы мне не сказало. Но первый же взгляд на тускло освещенное, наполненное невнятными звуками помещение с его тесно примыкающими друг к другу кроватями вдруг пробудил память, где оно, оказывается, жило, и в первую же ночь я вспомнил и сюжет, и атмосферу, и даже многие строки поэмы.
«Нау», № 6, ноябрь 1946 г.
Рецензия на «Суть дела» Грэма Грина
Довольно большая часть выдающихся романов нескольких последних десятилетий была написана католиками, даже возник термин «католические романы». Одна из причин состоит в том, что конфликт не только между этим миром и следующим, но и между святостью и добротой – весьма плодотворная тема, бесполезная, однако, для обычного, неверующего писателя. Грэм Грин однажды, в «Силе и славе», воспользовался ею успешно и однажды, в «Брайтонском леденце», с гораздо более сомнительным успехом. Его последняя книга «Суть дела» (издательство «Викинг») – как бы сказать повежливее – не из лучших его произведений и производит впечатление механически сконструированной; знакомый конфликт разложен здесь как алгебраическое уравнение, без малейшей претензии на психологическую достоверность.
Вот канва событий. Время действия – 1942 год, место – западноафриканская колония Британии, она не названа, но скорее всего это Золотой Берег [177] Теперь – Гана.
. Некий майор Скоби, заместитель комиссара полиции, обращенный католик, находит спрятанное в каюте капитана португальского корабля письмо с написанным на конверте немецким адресом получателя. Письмо оказывается личным и совершенно безобидным, но Скоби, разумеется, обязан доложить о нем высшему начальству. Однако жалость, которую он испытывает по отношению к португальскому капитану, не дает ему это сделать, и он уничтожает письмо, никому ничего не сообщив. Нам объясняют, что Скоби – человек почти избыточной совестливости. Он не пьет, не берет взяток, не содержит любовниц-негритянок, не склонен к бюрократическим интригам, и на самом деле и свои, и чужие недолюбливают его за прямолинейность, коей он напоминает Аристида Справедливого [178] Афинский государственный деятель (ок. 530–467 гг. до н. э.), полководец периода греко-персидских войн; занимал позицию политика вне группировок, всегда ставил общегосударственные интересы выше личных, что вызывало восхищенное удивление современников, давших ему прозвище Аристид Справедливый.
. Снисходительность к португальскому капитану – его первая ошибка, после которой жизнь его начинает напоминать сюжет на тему «Не ведаем, какую сеть себе плетем, единожды солгав» [179] Цитата из шестой песни поэмы В. Скотта «Мармион». Перевод. В. Бетаки.
, и в каждом конкретном случае именно добросердечие уводит его в сторону от прямого пути. Изначально движимый жалостью, он заводит роман с девушкой, спасенной с подбитого торпедой корабля, и длит его главным образом из чувства долга, поскольку понимает, что девушка будет морально раздавлена, если он бросит ее; жене же он лжет, чтобы избавить ее от мук ревности. Из-за того что неспособен порвать с любовницей, он не идет на исповедь, но чтобы утишить подозрения жены, говорит ей, будто исповедался. Это доводит его до истинно тяжкого греха: он принимает причастие, не покаявшись в грехе смертном. К тому времени возникают и другие осложнения, порожденные той же ситуацией, и в конце концов Скоби решает, что единственный для него выход из положения – это совершить непростительный грех самоубийства. Но никто не должен пострадать из-за его смерти, поэтому нужно, чтобы она выглядела как несчастный случай. Однако, как это бывает, он допускает незначительную оплошность, и факт его самоубийства становится общеизвестен. Книга заканчивается тем, что католический священник делает сомнительный с точки зрения канона намек: якобы возможно, что душа Скоби будет спасена. Сам Скоби такой надежды не питал. Из чистого благородства он, всегда бывший непогрешимым и сохранявший невозмутимое спокойствие, обрекает себя на то, что безоговорочно считал заслуживающим вечного проклятия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Джордж Оруэлл Хорошие плохие книги [сборник] обложка книги](/books/33144/dzhordzh-oruell-horoshie-plohie-knigi-sbornik-cover.webp)

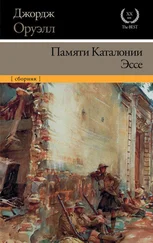
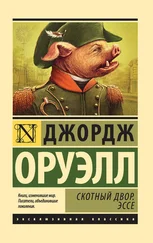
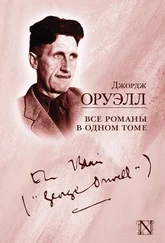
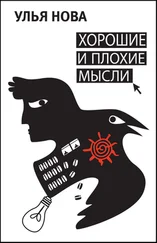
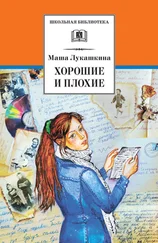
![Джордж Оруэлл - «1984» и эссе разных лет [Авторский сборник]](/books/407398/dzhordzh-oruell-1984-i-esse-raznyh-let-avtorskij-thumb.webp)
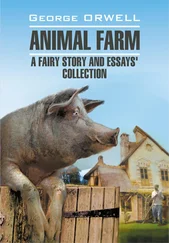
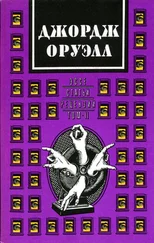
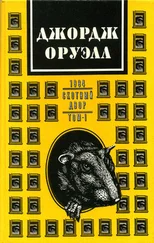
![Джордж Оруэлл - Скотный двор. Эссе [сборник litres]](/books/431073/dzhordzh-oruell-skotnyj-dvor-esse-sbornik-litres-thumb.webp)