И наконец, чай – если вы не придерживаетесь русского стиля чаепития – следует пить без сахара. Я прекрасно понимаю, что здесь остаюсь в меньшинстве. И тем не менее: как вы можете называть себя истинным любителем чая, если вы портите его вкус, добавляя сахар? С таким же успехом можно было бы добавлять в него перец или соль.
Чай, как и пиво, должен быть горьковатым. Если вы подслащаете его, вы чувствуете вкус уже не чая, а сахара: почти такой же напиток можно приготовить, растворив сахар просто в кипятке.
Кое-кто возразит, что не любит чай сам по себе и пьет его только для того, чтобы согреться и взбодрить себя, и сахар нужен, чтобы заглушить вкус именно чая. Этим заблуждающимся людям я бы посоветовал: попробуйте пить чай без сахара, скажем, недели две подряд, и едва ли после этого вы еще когда-нибудь захотите портить свой чай сахаром.
Это не единственные спорные моменты, связанные с чаепитием, но и их достаточно, чтобы показать, насколько тонкое это дело.
Вокруг чайника существует также загадочный общественный этикет (почему считается вульгарным пить чай из блюдца, например?), а также многое можно было бы написать о побочном использовании чайных листьев – скажем, для гадания о судьбе или предсказания приезда гостей, для кормления кроликов, лечения ожогов или чистки ковров.
Стуит обратить внимание на такие детали, как согревание чайника и использование кипящей воды для заваривания, чтобы наверняка выжать из своего рациона двадцать чашек доброго крепкого чая, которые могут обеспечить вам две унции сухого чайного листа при их надлежащем приготовлении.
Воскресное эссе. «Ивнинг стэндарт», 12 января 1946 г.
Примерно год назад я участвовал в конгрессе ПЕН-клуба, приуроченном к трехсотлетней годовщине публикации «Ареопагитики» Джона Мильтона – трактата, уместно напомнить, в защиту свободы печати. Знаменитая фраза Мильтона об «убийстве» книги была отпечатана на заранее разосланных листовках с извещением о встрече.
На сцене было четыре оратора. Один из них произнес речь, действительно связанную со свободой печати, но только в отношении Индии; другой, неуверенно и в самых общих выражениях, толковал о том, какая это хорошая вещь – свобода; третий клеймил законы, связанные с нецензурной лексикой в литературе; четвертый выступил с оправданием чисток в России. Выступавшие с мест говорили либо о ненормативной лексике и законах, против нее направленных, либо просто произносили панегирики в адрес Советской России. В пользу моральной свободы – свободы откровенного обсуждения вопросов секса в печати – выступило большинство, но о свободах политических речи не было. Из нескольких сот собравшихся, половина из которых скорее всего прямо связана с писательским ремеслом, не нашлось ни одного, кто сказал бы, что свобода печати – если это понятие вообще что-нибудь означает – это свобода критиковать и спорить. Показательно, что никто из выступавших не процитировал трактат, ставший, как было заявлено, поводом для нынешнего собрания. Точно так же никто не привел названия хоть одной книги, «убитой» за годы войны в нашей стране или в Соединенных Штатах. В результате конгресс стал демонстрацией в защиту цензуры [145] Справедливости ради следует отметить, что не все мероприятия конгресса ПЕНа, продолжавшегося неделю или даже более того, проходили на том же уровне. Мне просто не повезло – неудачный день выдался. Однако же анализ выступлений (опубликованных под общим названием «Свобода выражения») убеждает в том, что в наше время почти никто не способен выступить в защиту интеллектуальной свободы столь же откровенно, сколь Мильтон триста лет назад, и это несмотря на тот факт, что в Англии тогда шла гражданская война. – Примеч. авт.
.
Ничего особенно удивительного в этом нет. В нынешнем столетии на интеллектуальную свободу нападают с двух сторон. С одной – ее теоретические противники, апологеты тоталитаризма, с другой – враги непосредственные, практические: монополии и бюрократия. Любой писатель или журналист, желающий сохранить собственные честь и достоинство, сталкивается не столько с прямыми преследованиями, сколько с общим направлением движения общества. Его деятельности препятствуют такие обстоятельства, как сосредоточение прессы в руках немногих богачей, тиски монополий на радио и в киноиндустрии, нежелание широкой публики тратить деньги на книги, что вынуждает почти всех писателей зарабатывать себе на жизнь, хотя бы отчасти, литературной поденщиной, активизация деятельности таких государственных институтов, как Британский совет, которые, помогая писателю держаться на плаву, заставляют его тратить время попусту и навязывают свои мнения, и, наконец, устойчивая военная атмосфера последнего десятилетия, разрушительного воздействия которой не смог избежать никто. Наше время плетет заговор против писателя, стремясь превратить его, как и вообще любого художника, в винтик государственной машины, навязывая сверху темы творчества и не давая возможности раскрыть то, что представляется ему полнотой правды. И в борьбе против такого удела он не находит поддержки со стороны «своих», то есть не существует у нас сколько-нибудь развитого общественного мнения, которое могло бы утвердить его в правоте своего дела. В прошлом, по крайней мере в эру протестантизма, идея бунта и идея интеллектуальной честности существовали в нераздельном единстве. Еретиком – в политике, морали, религии, а также эстетике – считался тот, кто отказывался идти против собственной совести. Его мировоззрение воплощалось в словах религиозного гимна «возрожденцев»:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Джордж Оруэлл Хорошие плохие книги [сборник] обложка книги](/books/33144/dzhordzh-oruell-horoshie-plohie-knigi-sbornik-cover.webp)

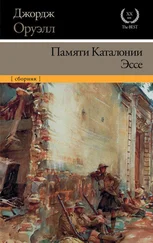
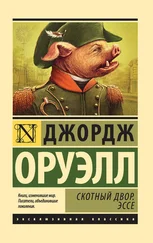
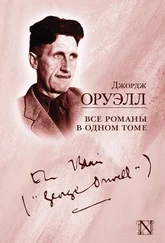
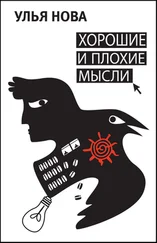
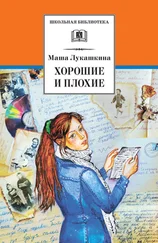
![Джордж Оруэлл - «1984» и эссе разных лет [Авторский сборник]](/books/407398/dzhordzh-oruell-1984-i-esse-raznyh-let-avtorskij-thumb.webp)
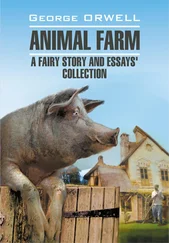
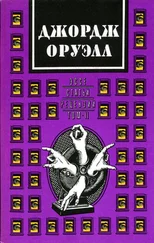
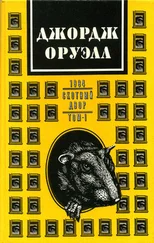
![Джордж Оруэлл - Скотный двор. Эссе [сборник litres]](/books/431073/dzhordzh-oruell-skotnyj-dvor-esse-sbornik-litres-thumb.webp)