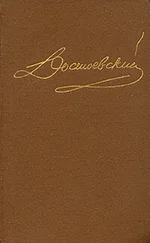Когда этот сложный процесс завершался, комар снова и снова летел на поиски человеческой крови, но теперь его хоботок был отравлен. Кусая мужчину, женщину или ребенка, комар переносил в его организм отравленные клетки, которые врывались в кровь и разносились по всему телу. В токе крови каждая клетка делилась на сто клеток, и все они питались красными кровяными тельцами, выделяя ядовитый пигмент, который вызывал лихорадку и сжигал тело человека в ее Неровном пламени.
Селестино, который мог быть и Дьего, и Хосе дель-Кармен, в разгар работы почувствовал, что погружается в вязкие волны лени, усталости и равнодушия и что тело его вздрагивает под холодным бичом озноба.
— Я еле на ногах стою, — сказал он и направился в тень.
Селестино, который мог быть и Дьего, и Хосе дель-Кармен, знал, что это приступ малярии, и приготовился встретить его. Скорчившись в гамаке, он чувствовал, как к его коже, к внутренностям, к корням волос, к костям подбирается холод, который растет, как половодье, и поражает глубже, чем удар кинжала. Гамак покачивался оттого, что все тело Селестино вздрагивало; зубы его выбивали дробь. Закутавшись в попону, в простыню, в скатерть, во все, что нашлось под рукой, Селестино лежал бледный, как привидение, и трясся от смертельного холода и тоски.
Но вот озноб отступил. Он сменился жаром, который рос с каждой минутой, его приступы учащались, становились все более жестокими. Селестино сбросил с себя попону, простыню и все тряпки, что его покрывали, и лежал, охваченный огнем, с лицом, пылающим, как цветок кайены. Его губы растрескались, как пересохшая глина, зрачки расширились и блестели, как зеркало. Частые капельки пота, которые постепенно увеличивались и сливались одна с другой, покрыли сплошь лоб, руки, все тело Селестино. Пот сбегал с него струйками, насквозь промочил одежду, пятнами проступил на ткани гамака и падал на землю, как роса.
Когда лихорадка оставила Селестино, его охватило странное и неожиданное ощущение нежности; вопреки всему он чувствовал себя счастливым оттого, что был жив и тело его снова стало легким, хотя еще болели мускулы спины, суставы рук и череп.
Боль тоже постепенно исчезла, и Селестино, который мог быть и Дьего, и Хосе дель-Кармен, поднялся с гамака и молча, опустив усталые глаза в землю, вернулся к работе, которую бросил четыре часа назад.
Как только прекратились дожди, Ортис, Парапару и все окрестные фермы захлестнул неотвратимый прилив лихорадки и смерти, грозивший навсегда смести с лица земли след этих селений.
— Какое страшное бедствие! — говорил сеньор Картайя. — Если бы в Ортисе еще оставались люди, эта лихорадка была бы самой смертоносной из всех, какие видел город за всю свою историю. Но теперь ей некого убивать…
Однако лихорадка находила жертвы. Булавочный укол комара, который нес злокачественную лихорадку и смерть, поражал высохших жителей Ортиса, беззащитных в своем фатализме и ослабленных хронической малярией. Эта лихорадка не отпускала больного через несколько часов, она сводила в судорогах его тело, заставляла его днем и ночью метаться в жару и бреду.
— Это экономная! — испуганно рыдала у гамака женщина.
Лихорадка действительно была «экономная», она убивала больного самое большее в четыре дня, не давая потратиться на хинин, знахарей или врача, которого, правда, и не было в этих местах.
Сеньор Картайя, отец Перния, Кармен-Роса, сеньорита Беренисе и Себастьян чувствовали свое полное бессилие перед этими галлюцинирующими и хрипящими больными, которые в полумраке ранчо сгорали в лихорадке, как дрова.
— Вы только посмотрите! Господи, он прямо обуглился!
Войдя в ранчо, они видели мужчину, или женщину, или ребенка с лицом, пылавшим адским румянцем лихорадки, с тяжело дышавшей грудью, с прижмуренными, словно от солнечного света, глазами.
— Это экономная! — с горечью соглашался сеньор Картайя.
И люди умирали. Умирали в забытьи, которое следовало за бредом, сотрясаемые неудержимой дрожью, в бессилии и отчаянии хватая ртом воздух, уже не попадавший в легкие.
Ушли многие из тех немногих, кто оставался в живых, в том числе и Эпифанио, хозяин кабачка. Эпифанио часто похвалялся:
— Ко мне малярия никогда не пристает. И сейчас не пристанет.
Или:
— Мою кровь комары не любят.
Или:
— Зараза меня избегает, не хочет со мной знаться.
Это походило на правду. Ушло несколько поколений ортисцев, прилетали и улетали полчища насекомых, шестьдесят раз за его шестидесятилетнюю жизнь начинались и прекращались дожди, а Эпифанио, бодрый и цветущий, толстый и ворчливый, продавал в своем кабачке хинин и свечи или играл на арфе в день святой Росы. Он не знал иной болезни, кроме головной боли, которая время от времени сваливала его с ног и которую он именовал «мигренью», желая этим подчеркнуть свою ученость.
Читать дальше