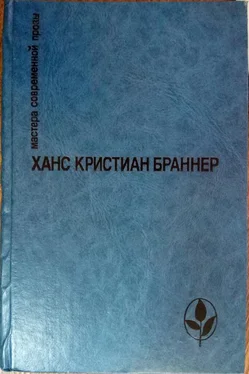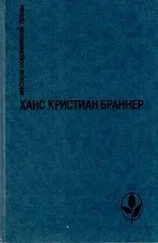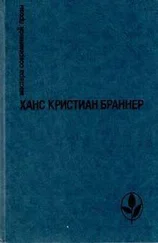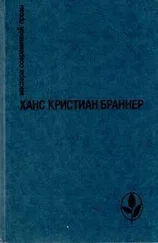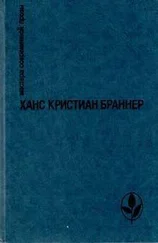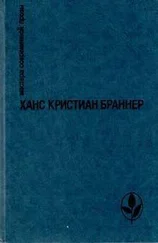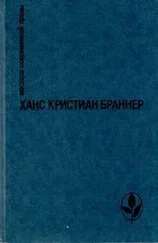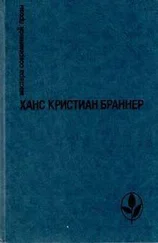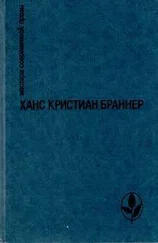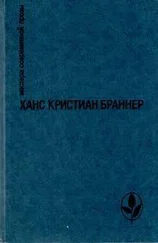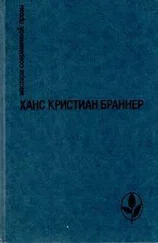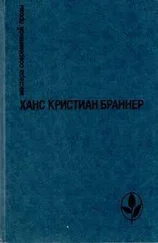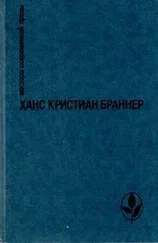В 1947 году Браннер сам определил свои искания следующим образом: ”Сначала я говорил о вере в Бога, потом — о вере в человека и, наконец, только о вере в самое жизнь. Теперь я снова пытаюсь верить в Бога, но пока это только слова, и мне предстоит долгий путь к моей вере. Верить нужно всем существом. Некоторые люди умеют это с детства, другие должны пройти через игольное ушко, чтобы научиться этому ”.
”Пройдя через игольное ушко” конца 40-х годов, Браннер достигает той веры в доброту, в служение людям, которая определяет роман ”Наездник” (1949). На первом плане романа мучительное освобождение от тяжелой травмы искалеченного человеческого сознания, испытавшего на себе ужас насилия: психологическая ситуация, понятая Браннером как ситуация ”безумия”, абсурдности определенных общественных отношений (фашизм и его жертвы). Сусанна, героиня романа, — молодая женщина, на глазах у которой лошадь убила ее любовника, руководителя школы верховой езды, жестокого, грубого, злого человека. Теперь Сусанна любит другого, мягкого, доброго врача, и терзается вопросом, как она могла жить с человеком, против которого восстало животное. Миф о человеке-лошади является организующим элементом содержания. Наездник, Хуберт, олицетворяет нацистскую диктатуру, поработившую человека. На страницах романа Хуберт появляется лишь в воспоминаниях, ибо к началу повествования он уже мертв. Память героев книги о прошлом, их воспоминания о Хуберте (этим приемом Джойса всегда восторгался Браннер) становятся материалом, на котором строится повествование. Хуберт — ”кентавр”, как называет его Браннер, — олицетворяет мрачную, темную силу власти и тирании, столь ненавистную писателю. Люди для Хуберта — объекты насилия или эксплуатации, даже отношения с Сусанной — отношения насильника и его жертвы.
Говоря о Сусанне, а вместе с ней и обо всех женских образах новелл и романов Браннера, приходишь к выводу, что Браннер, как и многие его современники, разделял идеи шведской писательницы Эллен Кей о мессианизме женщины в современном мире. Отсюда целая галерея женских образов в новеллах и романах (Клара в ”Игрушках”, Сусанна в ”Наезднике”, Магдалена в ”Никто не знает ночи”) — сильных, любящих, добрых женщин, являющихся у Браннера чаще всего опорой для более слабых мужчин, которые нуждаются в понимании и поддержке.
В 1955 году Браннер осуществил свой давний замысел — написал роман о Дании времен Сопротивления, который высветил основные проблемы, всю жизнь волновавшие писателя, подтвердил его верность излюбленным образам, темам.
Название романа — перефразировка строки из стихотворения датского поэта-романтика Б. Ингеманна: ”Никто не знает дня, пока не зайдет солнце”. Это название вызывает у читателя несколько ассоциаций. Ночью, которую никто не знает, может быть ночь оккупации, сама смерть, а скорее всего, под ”ночью” писатель понимал тайну, смысл жизни, который открывается человеку на пороге смерти.
Проблематика романа прослеживается писателем в трех планах — социальном, нравственно-этическом и психологическом. Писатель задает все тот же вопрос: ”Что должен делать человек, столкнувшись лицом к лицу со злом, — покорно склонить голову и принять его, пытаясь спастись; приспособиться к нему или оказать сопротивление, активно борясь с ним”. Известный датский литературовед Свен Мёллер Кристенсен назвал эту книгу ”одним из наиболее значительных романов в послевоенной датской литературе”.
Роман ”Никто не знает ночи” — роман довольно большого объема, с большим количеством действующих лиц (как и ”Игрушки”) рассказывает о событиях последнего года войны в оккупированном фашистами Копенгагене и рисует разных людей, представителей разных слоев общества. Одни из них сумели приспособиться к жизни в оккупации и даже преуспеть в ней. Их мы видим во время пьяной вечеринки В доме у коммерсанта Габриэля Блома. Других, которым угрожает гестапо, судьба свела в пакгаузе в ожидании переправки в Швецию. Эту группу готовят к побегу подпольщики: Кузнец — участник Сопротивления и Симон, один из главных героев романа.
Это произведение, по мнению датской критики, проложило путь в датской прозе ”новой технике” романа XX века: тут и поток сознания героя, его монолог, тут и соединение потоков сознания нескольких персонажей, различных настроений; полифония, построенная по принципу контрапункта, представляющего картину либо гармонии, либо дисгармонии.
Читать дальше