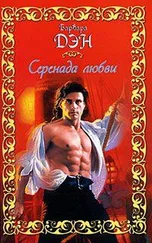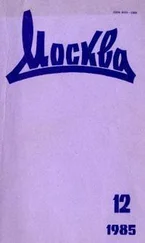Она отпустила меня и помахала указательным пальцем перед моим носом.
— Что со мной на самом деле? Скажи честно, Бен.
Я не знал, чего она ждала — правды или лжи.
— У тебя какая-то бородавка на печени. Она перекрывает проток, поэтому тебе было так плохо, когда тебя привезли сюда. Но они провели через бородавку трубочку, чтобы твоя печень могла по-прежнему очищать кровь. Они все проверили, кровь у тебя хорошая, печень работает, а почки как у молоденькой девушки.
Широко раскрыв глаза, переполненная доверием к моим словам, она слушала всю эту ахинею.
— Бенни, — сказала она, — я как раз подумала: а почему жилетку? Ты ведь никогда не носишь жилеток?
Мое объяснение ее удовлетворило. Больше ничего не требовалось. Речь шла не о правде. Речь шла о ритуале. Жилетка.
— Мам, я как раз потому и не ношу жилеток, что у меня их нет.
— А если у тебя будет жилетка? Ты станешь ее носить?
Какая разница. Если понадобится, я готов на коленях ползать, умоляя подарить мне жилетку.
— Стану.
— Не верю я тебе.
— Я буду носить эту жилетку, ведь ее мне подаришь ты.
— Синюю жилетку без рисунка?
Она помнила даже это. Я кивнул, преисполненный надежд.
— А знаешь, какая тебе пойдет? Бордовая с мелким черным рисунком.
Я кивнул. Она взяла меня за руку и ободряюще пожала ее, как будто именно я нуждался в поддержке.
— Как все будет дальше?
— Что, мама?
— Там. Люди. Война.
— Мы должны им помочь, — сказал я.
— Ты это сделаешь?
— Да.
— Обещаешь?
— Да.
Когда я днем вернулся в больницу, ей после приступа боли ввели морфин, и она уснула. Она бредила, твердила, что они с Беньямином ходили по магазинам, покупали подарки для мамы.
На следующее утро у нее отекли руки и ноги. Влага сочилась сквозь кожу. Пальцы бессильно лежали на испачканной простыне.
Врачи запретили ей есть, Фред попытался дать ей витамины, но она не могла глотать. И пряталась от нас в глубоком сне.
Когда я был рядом с нею один, без Фреда или Инги, я приподнимал ее веки и видел пустой взгляд. Где она была? Может быть, она уже попрощалась?
Я продолжал разговаривать с ней о моей работе и о великолепном выборе жилеток в «The English Hatter», шотландском магазине на улице Хейлихевех, где продавался трикотаж фирмы «Уильям Локки». Когда жидкость начала скапливаться и в легких, дыхание у мамы стало тяжелым и усталым. Мы сидели рядом с нею и в отчаянии бодро разговаривали друг с другом, меж тем как ее хрупкое маленькое тело растворялось в космической боли.
Мне хотелось еще так много узнать, но она не дала такой возможности. Может быть, после той неудачи в Сплите ее дух решил предоставить карциноме свободу? В чем заключена связь между телом и силой воли? Болезнь развивалась так, как предсказывали врачи, но я не мог избавиться от мысли, что она сама решила повернуться к миру спиной.
Она умерла в понедельник ночью, около четверти третьего, когда мы с Фредом оставили ее на минутку, чтобы выпить кофе внизу, в величественном холле Центральной больницы.
Погожим днем, под сенью пышных белых облаков и разводьев дивной лазури, после каддиша мы оставили ее в болотистой земле еврейского кладбища в Димене, рядом с моим отцом. Воздух благоухал скошенной травой. Вдалеке мчались машины, спешили в Хиверсюм. В небе ревел «боинг».
Вместе с Ингой я убрал дом, ища секреты, скрытые знаки, тайные стороны еврейки-мамы, которая вырастила меня.
У нее в спальне, в набитой бумагами коробке из-под обуви, мы нашли подсказку. Среди старых документов — а были там ипотечные акты, бумаги страховой компании, паспорт моего отца — лежал талончик к психиатру.
Бумажка была двадцатилетней давности, и я знал имя этого психиатра: он лечил пациентов, страдающих от военных травм.
Я позвонил ему, рассказал о смерти мамы и о предшествующих событиях.
Его кабинет был обставлен в пятидесятые годы, и с тех пор там ничего не изменилось. Добротная, прочная мебель, хранившая живую память о временах ясности, уверенности в себе. Психиатр оказался высоким человеком с пальцами музыканта и взглядом циничного позитивиста.
Да, конечно, он лечил мою маму. После смерти моего отца она обращалась к нему за помощью и на протяжении многих лет бывала у него как минимум раз в неделю (визиты прекратились после ее поездки в Париж, быстро подсчитал я).
В 1942 году ей было двадцать два.
В Брабанте она работала на фабрике, была прислугой, продавщицей, но, поскольку закон запрещал неевреям нанимать евреев, осталась без работы и помогала своей маме по хозяйству, что бы при этом ни имелось в виду.
Читать дальше