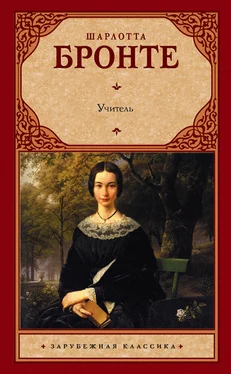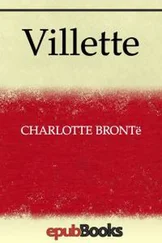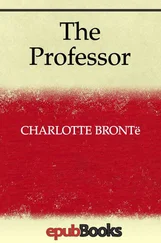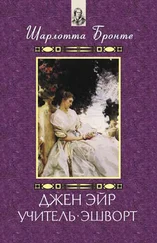Сначала я прогулялся по Брюсселю, затем до шести вышагивал по собственной комнате, за все это время ни разу не присев. Наконец пробило шесть; я как раз умыл разгоряченное лицо, сполоснул руки и стоял у зеркала; мои щеки пламенели, глаза сверкали, но в целом лицо выглядело спокойным и невозмутимым.
Торопливо спустившись по лестнице и выйдя на улицу, я с радостью увидел, что с наступлением сумерек небо затянули тучи, как благодатный для меня навес, и прохлада поздней осени, принесенная порывистым ветром с северо-запада, овеяла и освежила меня. Тем не менее я заметил, что остальным холодно: женщины кутались в шали, мужчины шли в наглухо застегнутых сюртуках.
В какие моменты мы счастливы? Был ли я счастливым в тот день? Нет, страх сковал меня, постепенно нарастая, и это продолжалось с той самой минуты, как я услышал радостные вести. Как там Френсис? Мы не виделись десять недель, и уже шесть недель я не получал от нее и о ней никаких вестей. На ее письмо я ответил краткой запиской, дружеской, но сдержанной, в которой ни словом не упомянул о продолжении переписки или визитов. В тот час моя лодка замерла на самом гребне волны рока, и я не знал, куда затем понесет ее поток и на какую отмель выбросит; в то время я не мог даже тонкой нитью связать судьбу Френсис с собственной: если моя участь – разбиться о скалы или наткнуться на мель, не следует манить за собой навстречу беде другое судно; однако шесть недель – немалый срок, по-прежнему ли все складывается удачно у Френсис? Ведь соглашались же мудрецы с тем, что на земле нет места счастью. И как меня угораздило задуматься об этом, когда от полной чаши довольства, от глотка живительных вод, какие текут разве что в раю, меня отделяло каких-нибудь пол-улицы?
Я был уже у заветной двери, вошел в тихий дом, поднялся по лестнице на пустую и тихую площадку, все двери на которой были закрыты, и остановился, глядя на ровно лежащий на своем месте у порога опрятный зеленый коврик.
«Знак надежды! – обрадовался я и шагнул к нему. – Но прежде надо успокоиться, не врываться к ней так, не делать сцен. – С усилием сдерживая себя, я остановился на коврике. – Но как же тихо внутри! Дома ли она? Есть ли кто-нибудь там?» – гадал я.
Ответом мне стал легкий стук, словно уголь провалился сквозь решетку, потом шорох – угли разворошили, и этот живой шорох продолжили шаги, которые то приближались, то удалялись, как будто по комнате ходили туда-сюда. Как завороженный, я слушал эти звуки и совсем прирос к месту, когда моего напряженного слуха вдруг коснулся голос – настолько приглушенный и предназначенный только для его обладателя, что я и не различил бы его, не будь вокруг так тихо; таким мог быть голос уединения в пустыне или в комнате заброшенного дома:
В пещеру ту, сынок, из нас
Никто не заходил,
Пока не грянул страшный час,
И Бог про нас забыл.
Из Бьюли, кровью обагрен,
Чужак, не чуя ног,
Бежал; и озирался он,
Чуть дунет ветерок.
В Чевьоте видит он: пылит
Погоня за холмом,
А над хребтом Уайтло вдали
Грохочет смертный гром…
Эта старая шотландская баллада была прочитана не до конца, голос умолк, последовала пауза; затем зазвучали другие стихи, по-французски, которые в переводе выглядели бы так:
Мне увлеченность удалось
Стараньем пробудить,
Из них стремленье родилось
Его благодарить.
Мне было слушаться легко,
И труд не в тягость был,
Хватало взгляда одного,
Чтобы придать мне сил.
От ученической толпы
Меня он отделял,
Но лишь придирчив был ко мне,
Но только строже стал.
Огрехи он прощал другим,
Мне спуску не давал —
Заметив мизерный изъян,
Заданье отвергал.
Сбивались прочие с пути —
Не видел ничего.
Но каждый мой неверный шаг
Разгневать мог его…
В соседней комнате раздался шум. Чтобы меня не застали подслушивающим, я торопливо постучал и так же быстро вошел. Френсис я увидел прямо перед собой, она медленно вышагивала и остановилась, лишь когда заметила меня, прочими присутствующими в комнате были сумерки и безмятежное алое пламя в камине; этим собеседникам, Свету и Тьме, Френсис и читала стихи. В строфах первого слышался голос сэра Вальтера Скотта, для нее чужой и далекий, как эхо в горах; во втором – голос ее собственного сердца. Ее лицо было мрачным, выражение на нем – сосредоточенным; она обернулась ко мне без улыбки, ее взгляд рассеянно блуждал, словно возвращаясь из мира грез; аккуратным было ее простое одеяние, гладко причесанными – темные волосы, чистой – тихая комната, но какое отношение ее вдумчивость, серьезность и самостоятельность, ее склонность к размышлениям и возможные приливы вдохновения имели к любви? «Никакого, – отвечал ее грустный, но спокойный облик и словно добавлял: – Я должна обрести стойкость и хранить верность поэзии; первая будет моей опорой, вторая – утешением в жизни. Человеческие чувства расцветают не для меня, страсти меня не прельщают». Встречаются женщины, убежденные в этом. Если бы Френсис в самом деле была такой одинокой, какой считала себя, ей жилось бы так же, как тысячам других представительниц того же пола. Взгляните на породу сухих и чопорных старых дев, которых все презирают; с молодых лет они приучают себя к смирению и стойкости. На столь скудной диете многие из них черствеют и ожесточаются; постоянная необходимость владеть собой отражается на образе их мышления, эта цель всецело завладевает ими, вытесняет более приятные свойства их натуры, и они умирают, превратившись в образцы аскетизма – костлявые, обтянутые пергаментной кожей. Анатомы возразят, что сердце есть и в груди самой ссохшейся старой девы, как и у самой любимой жены и гордой матери. Правда ли это? Точно не знаю, но сомневаюсь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу