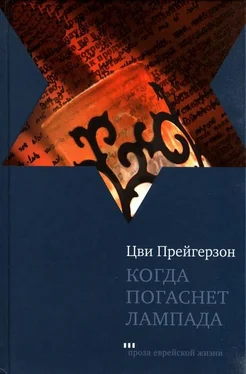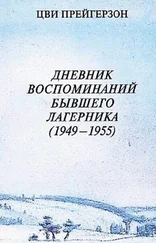— Так будет война или нет, реб Берл? — тихо спрашивает Песя.
Старую Песю беспокоит только опасность войны. Ах, Господи, был бы только мир в наших краях! А вся прочая политика с точки зрения бабушки Песи — незначительная чепуха.
Берл Левитин от души смеется. Война? Какая война? Ерунда! Смотрите, как суетятся дипломаты, летают из Лондона в Америку и из Америки в Лондон. В Китае сражения, в Греции и в Африке гремят пушки. Все они по макушку увязли сейчас в собственных проблемах, зато мы на долгие годы обеспечили себя безопасным нейтралитетом.
— Дети играют, а евреям горе, — говорит Шломо Шапиро.
По его мнению, игры с Гитлером не приведут ни к чему хорошему. Гитлер — страшный хищник, а с хищниками не играют.
Рядом с постелью Соломона слышится смех. Там собралась молодежь: Берман, Голда, Рахиль и Вениамин. Что за глупое веселье? Стыд и позор! Смеются себе, и всё тут — никакого уважения к важнейшим политическим проблемам! Соломон рассказывает анекдоты, причем довольно сальные. Голда не смеется, а только сильно краснеет от корней волос до кончиков ушей, краснеет и украдкой бросает на Бермана смущенные взгляды.
Песя ставит на стол бутылки вина и закуску. В этот вечер угощение особенно обильно — видимо, из уважения к важному гостю, Шломо Шапиро, ну и, конечно, в честь Шлоймеле, избитого и забинтованного, но любимого Шлоймеле.
Берман поднимается с места и ласково смотрит на Голду. Куда они собрались, сумасшедшие? Бабушка Песя упрашивает молодых остаться, но они не слушают.
— А где твой папа, почему не пришел? — спрашивает Песя у девушки.
— Болен он сегодня, — отвечает та.
Песя воздерживается от дальнейших расспросов. Известно, что время от времени словно находит на служку какая-то черная горечь, и тогда он прячется от всех, дни и ночи проводя в штибле. Берл Левитин продолжает рассекать море политики — и вдоль, и поперек. Хозяин наполняет стаканы, а резник реб Довид вооружается вилкой. Рахиль и Вениамин провожают Бермана с Голдой. Они выходят в переулок. Еще немного — и каждая пара пойдет своим путем. Рахиль и Вениамин сворачивают на хорошо протоптанную тропинку к реке. Над водой звезды и речная прохлада. Безмолвие и тьма окутывают молчащую пару. Слышится отдаленный лай собак, то и дело затевают свой концерт лягушки. Под крыльями куста, старого надежного друга, тесно-тесно прижимается Рахиль к Вениамину. Прижимается к любимому, и смеется, и плачет.
Вот и пришел конец лесной безмятежности, мягкой душистой тишине полтавских сосновых рощ.
В столице ждала Вениамина осень, холодные утренники, опавшие листья на тротуарах и трамвайных путях, дворники с метлами и лихорадочный темп большого города. Ждал институт с его лекциями и семинарами, учебниками и лабораториями. Но Вениамин не жаловался. Он любил студенческую жизнь и искренне желал с головой окунуться в учебу. Если есть в этом мире ненормальные, готовые благословлять хедер прежних времен, и ремень меламеда, и субботу с ее пирогами… — если есть такие люди под солнцем, то, скорее всего, народ Книги вырастил их.
Но в первый вечер после приезда еще одолевали Вениамина воспоминания о Гадяче. С закрытыми глазами лежал он на своей железной койке в комнате номер 224 студенческого общежития, лежал и грезил наяву. Невелика была комната номер 224, невелика и скудно обставлена: шкаф для посуды, книг и вещей, стол, два стула и две кровати — вторая койка предназначалась для Соломона.
Закрыв глаза, Вениамин перебирал в памяти все, что удалось ему обрести этим летом. Он познакомился с компанией стариков — каждый там по-своему интересен. У дряхлого резника реб Довида «есть еще Бог на небесах», Берл Левитин занят высокой политикой, Хаим-Яков, винодел, печется о благе детей, а профессор Эйдельман поглощен работой и кашлем. А есть еще и чернявый кладбищенский габай, еврейский монах, в уединении штибла сражающийся с темными силами ситра ахра и хранящий как зеницу ока Негасимый огонь светильника.
Что еще? Еще девушки — каждая со своими достоинствами, своим характером и своими выкрутасами. Жесткая сердцем Лида Эйдельман, играющая Шопена, — Вениамин уже почти не вспоминает свое неудачное объяснение с этой девушкой. Другие, жгучие ночи начисто заслонили собой тот досадный эпизод; теперь его мыслями безраздельно владеет Рахиль Фейгина.
Ох уж эти печальные воспоминания о днях смятения и заблуждений!
С закрытыми глазами лежит Вениамин на железной койке студенческого общежития. А вот предстает перед ним Песя Фейгина, еврейская мать. Тень скромной святости лежит на ее морщинистом лице. Среди бушующих волн жизни стоит она, всеми силами слабых своих рук стараясь прикрыть, защитить семью и детей; прикрыть, приласкать, утешить, прижать к сердцу.
Читать дальше