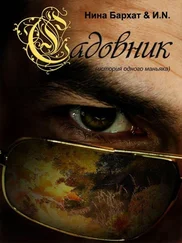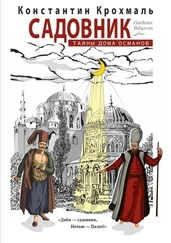Помню приезд родителей. Меня вызвали на КПП, и семья воссоединилась на фоне дикой расправы. Дежурному офицеру взбрело щегольнуть удалью, и по его приказу часовой застрелил приблудного пса. Причем, убивал медленно: пули всаживались тупо, под стать зубрежке пэтэушника. Мама, побледневшая от этой сцены, рассеянно меня расцеловала… Церемония принятия присяги в гипофизе стерлась напрочь. Зато запечатлелась прогулка по Волгограду: растянут вдоль берега неимоверно — течением его, что ли, размыло?.. На сей раз яства, привезенные из Минска, предназначались не только мне. Палка салями, маринады, буженина, бутыль «Зубровки»: я едва успел облизнуться. Все это ушло на горюче-смазочную подпитку нашего «Т-100». «Оказывается, — поделился я с Индиковым этимологическим открытием, — слова «рот» и «ротный» — от одного корня…» Но с отбытием близких Фортуна хохотнула в обшлаг. С саратовщины пришла разнарядка — и сотню путейцев, включая меня, кинули на станцию Терса Вольская, родину двадцатипятиградусного мороза: не снабдив при этом ни валенками, ни рукавицами. К тому ж накануне отъезда Кузменко злорадно содрал с меня припасенный свитерок: прощальная пакость удалого есаула.
Поселок ютился в ложбине, присыпанный то ли декабрьским снежком, то ли серой пудрой торчавшего на всхолмье цементного завода. Расселили нас в плацкартном вагоне, продуваемом цепными ветрами. Отопление входило в обязанности гражданских проводниц, но что за дело до наших судорог двум казахским пери — коли ночью их пользовало пьяное офицерье! Сдается, в нашем чутком кругу я выказал недовольство… Одного из командиров звали Бляблин, он был приземист, плюгав. Меня приметил сходу, пригласил в купе к главному, усачу-одесситу:
— Марговский, вы кто по профессии?
— Литератор, товарищ майор.
Заминка.
— Ну, ладно, покамест идите…
Эх, в ножки бы мне поклониться писучим советским вождям!
Впрочем, Бляблин не отстал: скрутил шпажонку из толстой проволоки и тыкал нас сзади, пока мы поддевали ломами чугунные рельсы, примерзая к ним тощими подошвами. Для меня у него заготовлена была персональная реплика: «А ну, покажь, как рихтуют по-литературному!» Усач больше не цеплялся; лишь однажды, подсев, обвел буркалами моих соседей:
— Хлопци, а знаете, яка нация самая грязная?
— Цыгане? — подобострастно предположил Потапов, воронежский тугодум с долбленой долотом ряхой.
— Ни-и, хлопци, евреи… — вздохнул гость и не прощаясь убрался восвояси.
В мозгу его сидела заноза покрупнее — рядовой Бодулан, суток на пять канувший в самоволку: а что как увели соплеменника ромалэ, осевшие в окрестных добротных избах?.. Одного из таких я видал на околице, — кутаясь в дубленку, «конокрад» отбивался от наскакивавшего на него с угрозами мужика: «Отвяжись! Цыгане живут по всему свету!»
Раз в неделю подневольных возили мыться. Стоило зазеваться — уводили полотенце, шайку, мыло, свежие портянки… Всласть попарясь, я приникал к зеркалу предбанника — испытывая нежность к собственным порозовевшим ушам. Те же — изумленно внимали побывальщинам перехожих калик, стариц Островского, кутавшихся в допотопные шушуны: какого еще лешего тут нужен драмтеатр! На обратном пути азиаты жгли мазут посреди теплушки, с половецкими воплями пускаясь в пляс. Один такой с маху огрел меня черпаком по темени: за то что я чавкнул, хлебая баланду.
На трассе случались побоища, травмы, обморожения. В инструкциях по технике безопасности — в связи с пущенной под откос вертушкой — неизменно фигурировал рядовой Пиогло с далекой станции Кандапога. В то же время каракалпака, носом расклевавшегося на здешнем полотне — и расплющенного в лепешку, начальство постаралось поскорей забыть. По двенадцать часов в сутки мы вбивали костыли, закручивали гайки, тягали шпалы по 80 кг. «Ничего! — зубоскалил Потапов, студент физкультурного. — Еще немного — и ты разучишься строгать свои поганые стишки!»
Работая, я мысленно декламировал мандельштамовского «Волка» и «Быть знаменитым некрасиво» Бориса Леонидовича. Полюбившийся ритм удерживал тепло в теле. Согревала также и берлога, вырытая в задубелом насте между утесами. Там я и поверил добродушному донецкому рудокопу свои новые стихи — о прошедшей продолженной жизни. «Ненароком выясняется, — ухмыльнулся Рома, — что армия спасла тебя от шизофрении!»
А вот и вновь учебка. Возвращение мнилось ирреальным. Прапор Сергеев так же ехидно сверкал золотым клыком, желваки казачонка упруго переминались в такт медоточивому курлыканью Старостинского. Что впереди? Мычание буддийской степи? Ядовитые наколки байкало-амурской уголовщины?.. В умывальник, где я до пояса обтирался, втиснулся еще более раздобревший Пильщик. Убедясь, что нас не слышат, внушительно процедил: «Отец хотел, чтоб ты дослуживал поближе. Стало быть, едешь в Минск. Так и передай».
Читать дальше