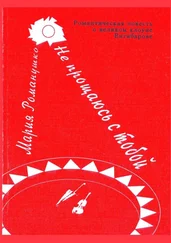Бойко был в восторге. Он сказал:
– Готовый номер! Включаю его в наш репертуар. На ближайшем же концерте будете с ним выступать. Сделай только себе маленький красный плащик. Это украсит чёрное трико. И маленький хлыстик. А вы, ребята, отлично смотритесь в паре. Подумайте, чтобы вы ещё могли сделать вместе.
И мы с Жан-Кристофом стали лихорадочно придумывать себе репертуар… Хотя пара мы были странная. Он был ниже меня ростом и уже в плечах, с крупной головой, очень бледным лицом и гривой серых, пепельных волос. Глаза у него были светло-серые, навыкате, очень крупные и как будто всегда немного сонные. У Жан-Кристофа был хронический недосып, он работал на каком-то предприятии и вставал очень рано. Мы настолько странно смотрелись рядом, что было ясно, что работать вместе можем только эксцентрику: ну, вот, типа укротительницы хищников.
Мы выступали с этим номером, имели успех и подумывали: а не податься ли нам на профессиональную сцену? Подготовить ещё пару номеров, ведь это совсем не трудно – и можно идти работать: ехать с какой-нибудь актёрской бригадой по городам и весям, по колхозным клубам, по крошечным городишкам, где люди радуются приезду артистов, как великому празднику. Сама когда-то жила в таком вот городке в степи и знаю, как там ждут артистов. Люди в провинции – самые благодарные зрители.
Удерживало только то, что у меня из головы не шёл цирк… Студия пантомимы была для меня всё же промежуточным вариантом. Весь этот год я выступала на сцене с нашей студией, но меня это как-то не грело. Мне снился манеж… Но, если учесть, что мой Клоун тоже временно ушёл на сцену (я была уверена, что это – временно, и от артистов на репетиции на ВДНХ уже слышала: «Енгибаров хочет вернуться в цирк»), но пока Мой Клоун был на сцене… вариант с Жан-Кристофом, и этот наш цирковой по духу номер меня устраивали.
Мне всегда хотелось работать на одном поле с Моим Клоуном. Ради этого стоило перетерпеть слепящий холод рампы и черноту зрительного зала… Меня убивала эта чернота. Когда я выходила на сцену, мне казалось, что там – за краем сцены – просто чёрная дыра… Пусто! Это совсем, совсем не то, что в манеже, когда вокруг – лица, улыбки, человеческое тепло… Не представляю, как театральные артисты всю жизнь работают перед этим тёмным залом. Но временно можно перетерпеть, думала я. А Жан-Кристоф был классным партнёром: очень отзывчивым, пластичным, музыкальным. (Он-таки станет профессиональным актёром-мимом, и много лет будет играть в Театре пластической драмы у Гедрюса Мацкявичюса, а потом – будет вести собственную студию… А тогда, в начале семидесятых, уже видно было, какой это замечательный актёр.)
Мы могли часами спорить о нашем будущем репертуаре. Точнее – спорила я. А Жан-Кристоф говорил свои реплики в замедленном темпе, у него была такая необычная, слишком замедленная речь – как будто магнитофон сильно недотягивает. Или как будто перед тобой Диоген со ртом, набитым камушками. Короче: Жан-Кристоф был прирождённый мим, а говорить, спорить – это была не его стихия. Он мог спокойно молчать час, два… сколько угодно. Я ведь тоже не из говорунов. Поэтому наши творческие встречи происходили порой в полном молчании.
– Жан-Кристоф, а ты заметил, что мы с тобой за весь вечер не сказали ни слова?
– Правда? – искренне удивлялся он. – Нет, не заметил.
Мне нравилась его молчаливость. Не люблю болтунов. Людей, у которых всё уходит в слова.
Промолчав целый вечер, он вдруг говорил:
– Смотри, что я придумал.
И тут же показывал что-то из будущего номера. Да в таком отточенном виде, как будто он целый год перед этим репетировал! А ему не нужно было репетировать. Просто это был его природный язык – язык пластики и жестов. И, если открывая рот, он был косноязычен и маловразумителен, потому что это была совершенно не его стихия, то когда он говорил: «Посмотри», – и начинал говорить руками, всем телом, мимикой. – то был понятен и красноречив, и каждый жест его был абсолютно однозначен. Вот это была его стихия!
А мне всё нужно было записать на бумаге, прописать все оттенки, все «корючки». Только написав на бумаге, я начинала это видеть и чувствовать. Всё-таки я – бумажный человек…
И вот что интересно: Жан-Кристоф в жизни был жутко застенчив, но когда он начинал двигаться, что-то показывать – его застенчивость тут же испарялась. Погружаясь в свою стихию – стихию пластики – он был очень уверен в себе. Буквально как рыба в воде.
У меня же где-то внутри всегда сидело какое-то смущение, и я должна была его постоянно преодолевать. Только когда я репетировала совершенно одна, в маленьком тёмном клубе в Марьиной Роще, вот только тогда я себя чувствовала абсолютно свободной и не стеснялась. В те минуты мне казалось порой, что я… – ну, не гений, конечно, но и не бездарь, это точно. Вот только этого никто не видел и не знал…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу