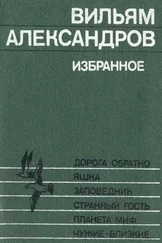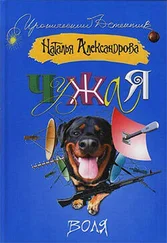Уже потом мне объяснили, что, когда зеленеет тутовник, все население окрестных кишлаков выходит на рубку ветвей и тащит их по домам, чтобы кормить личинку тутового шелкопряда. А дерево от этого не страдает. Оно становится еще более ветвистым, и старые тутовники — это огромные разросшиеся гиганты.
Одно такое дерево росло у нас во дворе, над арыком. Оно, правда наклонилось. Видимо, под тяжестью своих ветвей и плодов оно все больше склонялось в сторону воды, да так и осталось висеть над водой, закрепившись корнями, словно воздушный мост, перекинутый на тот берег. Когда стали поспевать ягоды тутовника — то, что мы в своем приморском городе называли шелковицей, — мы вдруг открыли для себя неисчерпаемую сокровищницу. Сахара мы не видели давным-давно, фруктов еще и в помине не было, а тут. — на каждой ветке — десятки, сотни, тысячи сочных белых ягод, пропитанных чуть душноватым, клейким солнечным соком. Тут было от чего сойти с ума!
И прихожу после первой смены еще засветло и, наспех сбросив с себя всю промасленную одежду, ополоснувшись в кристальной арычной воде, лезу в одних трусах на дерево.
Бабушка с Анной Павловной растягивают над арыком байковое одеяло, бабушка с одной стороны, — Анна Павловна — с другой, и ждут, когда я начну трясти дерево. Но есть хочется нестерпимо, и первое, что я делаю, это набиваю рот тутовником. Я лезу повыше, туда, где еще не обобраны ветви и откуда лучше раскачать крону, а по дороге хватаю обеими руками огромные, длинные, с палец величиной, ягоды и запихиваю их в рот, он уже не закрывается, щеки раздулись, сок течет у меня по подбородку и шее, но остановиться я не могу — это выше моих сил, и я поглощаю его до тех пор, пока не чувствую, что живительный сахар попал в кровь, и вот теперь как-то легче стало на душе и можно посидеть на ветке, не торопиться.
— Ну что же ты, Слава, — кричит мне бабушка, — ведь ждет же человек! — Она имеет в виду Анну Павловну, но та устало улыбается, глядит, щурясь наверх, и говорит негромко:
— Не слушай ты никого, Славочка, поешь вдоволь сам. А мы подождем. Растет ведь он, ему бы обед сейчас настоящий, а это что… Поешь, поешь, сколько можешь…
— Да нет, я сейчас, — откликаюсь я, но рот у меня набит и получается как-то смешно и нелепо. Я сижу на толстом — в две руки — ответвлении и блаженствую, осматриваюсь вокруг. Солнце уже низко, но отсюда оно видно хорошо, оно пронизывает ветви своими розоватыми лучами, и ягоды кажутся золотистыми, словно отлитыми из латуни. Сначала кажется, что их совеем мало, но надо присмотреться. Надо только присмотреться — и вот тогда вдруг начинаешь различать их едва ли не под каждым листом, а то и по две, по три рядом. Иногда они висят целыми гроздьями, и тогда доставляет особое наслаждение осторожно, чтобы не помять, снять такую гроздь. Они ведь очень нежные, словно без кожи — один сплошной сок, обтянутый тончайшей пленкой. Такие вот — красивые, крупные — я складываю в свою алюминиевую миску, я поставил ее в развилке между ветвями — это, так сказать, десерт. А теперь начинается сбор урожая.
Я резко встряхиваю ветви, и крупным дождем сыплются ягоды на растянутое одеяло. Не все, конечно, попадают по назначению, некоторые ссыпаются на землю и тут же разбрызгиваются, превращаясь в лепешку. Иные падают в арык и плывут по течению. Когда дома бывает Горик, он лезет в арык, становится ниже по течению и вылавливает их.
Еще одна-две встряски, и одеяло уже нужно освобождать. Бабушка и Анна Павловна переходят на мостик и ссыпают ягоды в посуду.
— Ах, какая прелесть, — говорит бабушка и кладет в рот одну тутовину. — У нас ее называли шелковицей, но она была кислая и хрустела на зубах. А для этой и зубов не надо — ну чистый мед…
— Давайте одеяло, — кричу я сверху, — растягивайте, глядите, сколько падает!..
Я перебираюсь на другую ветку — и даже от легкого сотрясения летят вниз ягоды.
— Сейчас, сейчас…
Теперь уж к нам присоединяются Софья Сергеевна и Оля. Они растягивают еще одно одеяло, рядом с тем, и я снова встряхиваю дерево. С глухим стуком сыплется тутовник, бесплатный дар природы, медовая ягода, взявшаяся неизвестно откуда — просто так, из этой пресной воды, из этой рыжей несъедобной земли, из этого жгучего далекого солнца…
И ведь вот чудо — мы обираем дерево, казалось бы, дочиста, вроде уже ничего на нем нет, а завтра или послезавтра я опять лезу на него, и опять повторяется то же самое…
Они подставляют одеяло, я трясу дерево, перебираюсь с ветки на ветку и все время думаю об этом, никак не могу понять, что это такое: если одно-единственное дерево может дать столько плодов, сколько же могут дать все деревья, вся земля, если ее засадить сплошь? Сколько в нашем цехе станков, сколько умнейших машин, моторов, хитроумных приспособлений, но ни одно из них не может накормить человека. Мы ходим целый день голодные, долбаем стены, следим за моторами, но хоть бы что-нибудь можно было укусить — какую-нибудь станину или кабель! Так нет же — ничего. И если завтра нам не привезут хлеба, не дадут затирухи — мы просто подохнем с голоду со всеми своими машинами. А здесь — глядите — одно-единственное дерево — и такое богатство! Что же такое человек — со всеми его хитроумными железяками, со всеми его танками и самолетами — по сравнению с этим обыкновенным деревом? Какое право он имеет сжигать и взрывать поля и деревья, если со всей своей техникой, со всеми своими заводами и лабораториями не может сделать того, что делает одно это дерево? Господи боже мой, — вот она, природа, протягивает людям свою руку, говорит: глядите — это я сделала для вас, берите, только будьте людьми! А люди?
Читать дальше