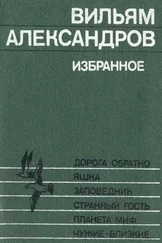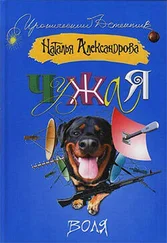Булочник все время дергал Софью Сергеевну за рукав, но в нее словно бес какой-то вселился. Теперь уж не было вызова в ее голосе, а была тоска и даже мольба была, когда она, не сводя глаз с Кожина, опять заговорила:
— Я, может, глупая женщина, может, я не все понимаю, может, я… — Она замолкла, и лицо ее скривилось, но, сделав над собой усилие, она все же продолжала: — Но ведь была же у меня семья. Муж был… Ну, простой он был человек, не чета вам, не выбился в люди, шофер был простой, но ведь жили мы, не голодали и в кино ходили, и дочка у меня была… Женька была… А сейчас… Ну что, ну что, скажите, я сейчас?.. — Она глотала слезы и глядела с неистовой мольбой на майора, будто он мог сейчас одним словом вернуть ей все, что было, и повторила исступленно: — Ну что я сейчас, ну кому я сейчас нужна, только вот этому… — Она с ненавистью глянула на булочника.
— Успокойтесь, Соня, — подошла к ней Анна Павловна, — не надо так, не надо. Не вы ж одна.
— Нет, пусть он ответит, пусть он ответит мне, — твердила она, размазывая слезы по щекам, — ну за что, за что…
— Да она пьяная, — возмущенно проговорила Маруся, — уберите эту бабу, или я…
Но Кожин остановил ее суровым взглядом.
— Я отвечу, — сказал он раздельно и поднял голову, обвел всех нас темными, глубоко запавшими глазами.
Он замолчал, и мы все молчали. Даже Софья Сергеевна стихла. Она глядела на майора широко раскрытыми настороженными глазами — видно, и она не ожидала такого оборота.
— На фронте за такие речи… — сказал Кожин и покачал головой. — Потому что сейчас надо воевать, разбираться будем потом. Но она женщина, мать, и она задает вопрос, который сейчас в душе у всех. Не должно было этого быть! Нет, не должно! И все мы тут в какой-то мере виноваты. Ведь знали, что будем воевать. Знали. И готовились. Значит, немного не так готовились, немного не туда смотрели… — Он провел ладонью по волосам — у него густые, жесткие седоватые волосы, и как он их ни приглаживает, они встают снова. — Но ничего. Ничего… Главное — мы выстояли. Выстояли в самую трудную минуту. А теперь время работает на пас, мы стали на ноги, закрепились, теперь вы увидите, как они покатятся назад, и уж тогда… — он поднял свободную руку и потряс кулаком. — Тогда пусть не ждут пощады!
— Товарищ Кожин, — осмелела бабушка, — а вот говорят, что возле Харькова немцы опять наступают. Это правда?
— Да, это правда. Там очень жестокие бои. Они, конечно, снова и снова будут пытаться, кое-где, может быть, придется и отступить.
— Не дай бог!
— Ничего. Это уже ничего не решает. Главное — мы научились их бить и знаем, как это делать. Пройдет еще немного времени, и вы увидите, вы увидите, как они побегут… — Лицо его вдруг перекосилось, он дернулся и перегнулся вправо, прижимая руку к животу. Это длилось только одно мгновение. В следующее — он уже снова стоял, выпрямившись во весь рост, словно перед строем. Девушка в гимнастерке вскинулась, хотела подбежать к нему, но он махнул рукой: — Ничего, Галя, ничего. Уже прошло, сиди. — Он высоко поднял железную кружку. — Ну, так выпьем за нашу победу и за жизнь, которая будет после войны. Эх, какая у нас жизнь будет после войны!
И тут словно прорвало всех. До этого сидели скованные, молчали, а тут — все враз заговорили, какая жизнь была до войны, какая у кого была квартира, работа, какие были мужья, и все это сразу, перекрикивая друг друга, в один голос. Видно, подействовало вино на голодный желудок. Маруся требовала «прямого ответа» — будет второй фронт или нет, бабушка спрашивала что-то насчет Одессы, Софья Сергеевна кричала, что она подлая стерва, а булочник ее успокаивал…
Майор попытался что-то отвечать, но, видно, ему было трудно говорить, он попросил разрешения лечь, и ему постелили так, что голова его была возле «стола», и он продолжал беседовать, но я видел, что нот выступил у него на лбу.
Я и не заметил, как исчезла Галя. Она как-то неза-метно для всех ушла, и никто не обратил на это внимания. А когда я вышел во двор, то разглядел возле ствола тутовника прижавшуюся к нему хрупкую фигурку.
Она стояла, положив голову на ствол дерева, плечи ее вздрагивали, и спелые тутовины с глухим всплеском падали время от времени в арык.
Теперь по утрам, когда я встаю на рассвете, собираюсь на работу, я встречаю во дворе майора Кожина.
Еще совсем рано, чуть брезжит серый утренний свет, и мне слышен далекий шестичасовой гудок. Но я улавливаю его сквозь сон, и тут же просыпаюсь, и, еще не очень придя в себя, выскакиваю, ежась, во двор, перебираюсь по камням на середину арыка, широко расставляю ноги, упираясь в два огромных плоских камня, и, перегибаясь, набираю пригоршню стеклянной, обжигающей арычной воды, плескаю себе на лицо и на шею. Потом одним прыжком выскакиваю на противоположный берег, тру себя большущей бязевой тряпкой, которая заменяет нам полотенце, и бегу назад, теперь уже в обход, через мостик. И вот тут я всегда вижу его. Он стоит на мостике, в полной своей форме, стоит, тяжело облокотившись о перила, курит и смотрит куда-то поверх домов и поверх деревьев, туда, где загорается заря. Чего он стоит так каждое утро, что он видит там? Не знаю! Может, он стоял вот так там, у себя, на переднем крае, и обдумывал, как лучше провести бой, а может, просто выходил подышать воздухом и насладиться утренним покоем и свежестью. Но он стоял так каждое утро, я встречал его и здоровался, он медленно поворачивал ко мне свое грузное туловище и спрашивал тихо и ласково:
Читать дальше