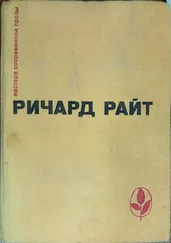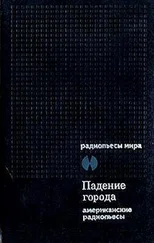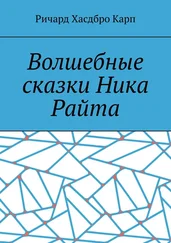Выжидая, когда можно будет украсть и смыться, я привык к зрелищу голых белых проституток в постели или в кресле, узнал, как ведут себя люди, как приспосабливаются к законам Джима Кроу. Считалось, что мы, черные, принимаем их наготу как должное, что она волнует нас не сильнее, чем, скажем, голубая ваза или красный ковер. Наше присутствие не пробуждало в них никакого стыда, потому что прежде всего нас не считали за людей. Если они были одни в комнате, я тайком бросал на них взгляды. Но если они принимали мужчин, я не поднимал глаз от полу.
На моем этаже снимала номер пышная блондинка с молочно-белой кожей. Как-то вечером она вызвала в номер прислугу, я пришел. Она лежала в постели с крупным, плотным мужчиной, оба были голые и ничем не прикрытые. Она сказала, что ей нужно виски, встала с постели и подошла к туалетному столику достать из ящика деньги. Не отдавая себе отчета, я смотрел на нее.
- Ты на что это уставился, черномазый? - спросил белый, приподнимаясь на локтях.
- Ни на что, сэр, - ответил я, мгновенно уткнувшись взглядом в стену.
- Смотри куда тебе положено, иначе не сносить тебе головы!
- Слушаю, сэр.
Я бы так и работал в гостинице до отъезда, если бы однажды не представился иной случай. Один из парней шепнул мне как-то, что единственному в городе негритянскому кинотеатру требуется человек проверять у входа билеты.
- Ты ведь в тюрьме еще не сидел? - спросил он.
- Пока нет, - ответил я.
- Тогда можешь получить это место, - сказал он. - Я б сам пошел, да уже отсидел шесть месяцев, а там это знают.
- А что за дела?
- Девушка, которая сидит в кассе, кое-что придумала, - объяснил он. Если тебя возьмут, не прогадаешь.
Если я стану воровать, мне удастся быстрее уехать на Север; если я останусь более или менее честным и буду лишь приторговывать контрабандным виски, я лишь продлю свое пребывание здесь, где у меня больше шансов попасться, потому что когда-нибудь я скажу или сделаю что-то недозволенное и мне придется расплачиваться такой ценой, о которой я не решался даже думать. Искушение пойти на преступление было велико, и я решил действовать быстро, принять, что подвернется, скопить, сколько мне нужно, и бежать. Я знал, что многие хотели того же и у них ничего не вышло, но надеялся на удачу.
У меня были все шансы получить место в кинотеатре: за мной не значилось ни воровства, ни нарушения законов. Я пришел к хозяину кинотеатра, и он сразу же меня нанял. На следующий день я вышел на работу. Хозяин предупредил меня:
- Слушай, если ты не будешь меня надувать, я тебя тоже не надую. Я не знаю, кто тут ворует, а кто нет. Но если ты будешь поступать честно, то и все остальные не смогут воровать. Все билеты будут проходить через твои руки. Никто не сможет украсть, если не украдешь ты.
Я поклялся, что буду поступать только честно. Никаких угрызений совести у меня не было. Он был белый, и я никогда не смогу причинить ему того зла, которое он и его собратья причинили мне. Поэтому, рассуждал я, воровство нарушает не мои нравственные принципы, а его; я знал, что все в мире устроено в его пользу, поэтому, что бы я ни предпринял, в надежде обойти заведенный им порядок, все будет оправдано. И все-таки до конца я себя не убедил.
В первый день девушка-кассирша внимательно за мной наблюдала. Я сознавал, что она старается раскусить меня, прикидывает, когда можно будет посвятить меня в свои махинации, и ждал, предоставляя ей сделать первый шаг.
Я должен был бросать все билеты, которые отбирал у посетителей, в железный ящик. Хозяин время от времени подходил к окошечку, смотрел на номер еще не проданных билетов и сравнивал его с последним билетом, который я бросил в ящик. Он следил за мной несколько дней, потом начал вести свои наблюдения с противоположной стороны улицы, потом стал надолго отлучаться.
Я жил в таком же напряжении, как и тогда, когда белые выгнали меня из оптической мастерской. Но я уже научился владеть собой; медленно и мучительно я вырабатывал способность подавлять это напряжение, никак его не проявлять, потому что одна только мысль о воровстве, о связанном с ним риске была способна привести меня в такое смятение, в такую панику, что я не смог бы ничего рассчитать трезво и холодно и тем более украсть. Но мое внутреннее сопротивление было сломлено. Я чувствовал, что выброшен из мира, вынужден жить за пределами нормального существования, что эта жизнь с каждым днем обостряет мой смутный протест, и я уже давно среди тех, кто только ждет своего часа.
Читать дальше