— Знаю, благоволишь к полякам. Он тут как тут с поклонами, ручку чмок-чмок, комплименты лживые, усы намазаны фиксатором, сплошное подражание трубадурам. А на самом деле — свинство, постель, разрушение семьи. Муз-не-ров-ский. Небось не забыла?
Мать молила взглядом. Но отец меня не замечал.
— Не забыла, а? Музнеровского своего, а? Музнеровские усы? Я по двадцать часов в сутки трудился на благо семьи. Возвращаюсь домой, а там пан и пани. Panstvo. Ну, дала Музнеровскому?! — кричал отец, и стук моего сердца заглушал бой всех часов. Пригоршня острых камней утонула в илистом пруду. Мой отец набил ими полные карманы. Правда, в одном кармане посверкивали бриллианты, в другом гремели обычные камни. И мать тихо покидала комнату. Я пытался читать, но книжные слова сплетались с отцовскими: «Старые были времена. Люди тогда были не то, что нынче, и жили по-другому. Фиксатором, фиксатором, ром, ром, фикс-с-с-с. Щедро тогда земля плодоносила, лесные чащи полнились зверьем, птицей, и люди были крепче, трудолюбивей. Музнеровский, ну, дала, да-а-а-ала! Иной юнец насмехается, чмок-чмок, фиксатором, старые люди на выдумку хитры были…»
Глаза у меня делались мокрыми, из носа текло, я вытирал его кулаком, и книжные слова становились какими-то отчетливо выпуклыми, словно я читал их через увеличительное стекло.
— Иди спать! — визжал отец, и я стремглав выкатывался за дверь.
История с Музнеровским… Однажды, когда я уже лежал в кровати, мать проскользнула ко мне, белая и спокойная, поправила одеяло и прошептала:
— Я любила одного человека, Антанукас. И рассталась с ним. Осталась с отцом. Потому что есть ты. Потому что… семья. Может, когда ты вырастешь, поймешь меня. И своего отца.
— Я всегда буду любить тебя, мама, — сказал я.
— Люби, Антанук. А теперь спи. Покойной ночи.
Больше она об этом не заговаривала, хотя я и пытался иной раз ее спровоцировать.
Все эти муки по поводу Музнеровского, было ли это началом болезни? Трудно сказать. Знаменитый психиатр подтвердил, что мать унаследовала шизофрению. И развязка должна была когда-нибудь наступить. Вся беда в том, что отец не сразу среагировал на начавшуюся болезнь.
Точной даты я не помню. Так бывает. Словно здоровая мать — несбывшаяся мечта о будущем, а больная — реальная повседневность.
В то время отец играл вариации Wieniawsky учительнице немецкого языка. Учительница — пожилая вдова, коренастая, с кривыми ногами, нос, как у Гёте, а волосы черные и жесткие. Она напоминала мне замызганную одежную щетку, потому что ее жирная кожа блестела. И все равно она была красивее моей матери. Не понимаю, как это случилось. Куда делись светлые волосы, удлиненный овал лица, большие и влажные глаза, густые ресницы, тонкая талия, полные, но не отвислые груди? Куда исчезли ее пластичные, с ленцой движения отдыхающей цыганки, мягкий рисунок губ? Гипноз ее пальцев, эти легкие касания, когда каждый палец смыкается с другим, словно ноты, выведенные рукой влюбленного композитора? Еще давно отец принес и повесил на стену большую фотографию матери. И мать покраснела, как-то странно взглянула на отца, и он, единственный раз у меня на глазах, обнял и поцеловал ее в губы.
Теперь это была отвратительная женщина. Кожа обвисла. Подбородок, щеки, грудь сделались какими-то тряпичными, болтались, точно мокрое белье на веревке. Запекшиеся губы напоминали печать. Тяжело раскачивалось обрюзгшее тело на набрякших ногах. Светлые волосы торчали космами, как у ведьмы. Зубы она не лечила, во рту зияли черные дырки — совсем как глазницы черепа.
И все-таки она убирала комнаты, латала белье, пыталась целовать меня на ночь. Речь ее сильно опростилась. Она двигалась и работала с какой-то обреченностью, словно приговоренный к смерти, который знает, что умрет в тюрьме. Ее воображение оживало во время припадков. Начинались они всегда неожиданно, всякий раз отцу и мне казалось, что это впервые. Поначалу они совпадали с определенными периодами, и какой-то провинциальный врач наобещал, что мать излечится после того, как эти периоды прекратятся. Возможно, это обещание или неизжитая сентиментальность удерживали отца от окончательного решения.
Припадок. Прежде всего — просветление. В глазах матери оживала прежняя нежность. Вся она делалась какой-то легкой, подвижной. Как старушка, вспомнившая молодость. Мы видели, ей хочется сказать нам что-то приятное, и она подбирает слова. Это усилие даже пугало нас. Мы настороженно выжидали. Сейчас все начнется, сейчас начнется, припадка уже не избежать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
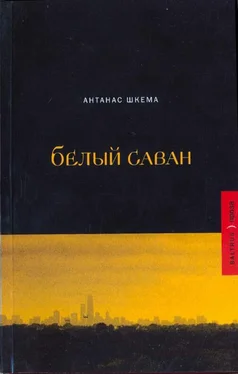


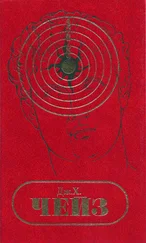




![Терри Гудкайнд - Саван Вечности [Shroud of Eternity] [ЛП]](/books/405118/terri-gudkajnd-savan-vechnosti-shroud-of-eternity-thumb.webp)

