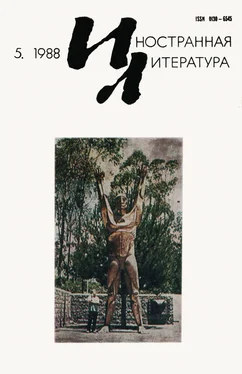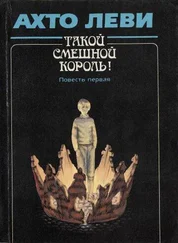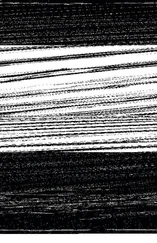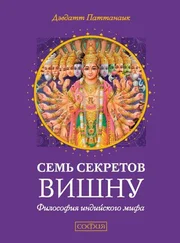И снова языки огня. Я неподвижно стоял у погребального костра Мадхава. Глаза мои были сухи.
Жизнь и смерть — жестокая игра. Да неужели человек рождается на свет, чтобы смерть с ним играла? Зачем тогда жить?
Смерть. Дети, играя, возводят крепости в прибрежном песке, а ленивая волна одним движением пенной гривы их смахивает в море. Чем отличаются деяния взрослых от детских игр? Зачем мы себе лжем, будто человек есть величайшее создание бога, будто искра вселенского огня делает нетленной его суть? Листья на великом дереве жизни, вот кто мы такие. Мы облетаем под малым дуновеньем ветерка. Я, король Яяти, — повелитель Хастинапуры? Я лист, который любой порыв ветра может сорвать с ветки.
Тело Мадхава обратилось в пепел, а я вернулся во дворец. Опять ночь — не ночь, а кобра, укус которой неминуем и смертоносен.
Мысли о смерти одолевали меня. Я долго стоял у окна, вперившись взглядом во мрак.
Вдруг из темноты показалась колесница и стала быстро приближаться ко мне. Но странно — ее колеса не производили шума и не слышно было стука конских копыт. И непонятно было, как мне удается так явственно видеть черных коней в кромешной тьме. Я всматривался все пристальней, не веря своим глазам — колесница взмыла над древесными кронами и цветниками и остановилась прямо у моего окна.
— Пора, ваше величество, — негромко позвал возничий.
— Но королева почивает и принц Яду тоже, — возразил я. — Не простившись с ними…
Он мне не дал договорить — рука протянулась к окну и через миг я сидел в колеснице.
Колесница бешено мчалась, мелькали знакомые здания: дом Мадхава, театр, арена, где я в юности укротил необъезженного жеребца.
Мы летели быстрее ветра. Мелькнул и остался позади Ашокаван.
— Куда ты везешь меня? — спросил я наконец.
— Не знаю.
— Когда мы вернемся?
— Не знаю.
— А что ты знаешь?
— Два имени. Твое и мое.
— Назови свое!
— Я Смерть.
Неизъяснимый страх объял меня — я никак не мог поверить, что нахожусь в своей опочивальне, стою у окна, и что летучая колесница была всего лишь видением…
Еле добравшись до постели на подгибающихся ногах, я сразу потянулся к кувшину с вином. Я осушал кубок за кубком, но языки огня плясали в моем отуманенном мозгу, и теперь уже мое собственное тело сгорало на погребальном костре… Я снова тянулся к кубку. И все пылал, пылал в огне.
Однако опьянение распалило иной пожар во мне, Мукулика, Алака, Деваяни и Шармишта огненными змейками скользили вокруг моего ложа.
— Алака! — звал я, но мои руки обнимали воздух. — Мукулика! — Но отчего все время ускользают ее губы?
А может, смерть витает над моим ложем? Вдруг эта ночь последняя?
— Шармишта! Шама! Шама!
Я был один. Шатаясь, я поднялся и прошел в покои Деваяни.
Служанка дремала перед дверью. При моем появлении она вскочила, закрывая рукою рот, и ринулась в опочивальню королевы. Приличия требовали подождать, пока служанка не оповестит королеву и та не пришлет сказать, что ждет меня. Однако распаленная страсть не считается с придворным этикетом. Я желал Деваяни, и ноги несли меня к ней. Я столько выпил, что Деваяни сразу все поняла. Она пришла в неистовство. Я тоже был несдержан. Мы наговорили друг другу много лишнего, а я в перепалке упомянул Шармишту…
И тогда, угрожая мне карой святого Шукры, Деваяни взяла с меня клятву.
— Согласен, — вынужден был сказать я. — Я больше никогда к тебе не прикоснусь.
Наголову разбитый, покинул я покои королевы.
С чем я остался в жизни? С постыдными воспоминаниями о том, как предал я Шармишту? Ни Деваяни, ни Шармиште я не дал счастья. Одна оттолкнула меня своей холодностью. Вторую я погубил своею любовью.
Не касаться Деваяни? Я ее видеть больше не желаю!
Покинув Хастинапуру, я навеки заточу себя в Ашокаване.
Приказав подать колесницу, я направился было в Ашокаван, но по пути мне вспомнилась Мукулика. Мукулика и ее гуру. Я припомнил старый монастырь недалеко от театра. Обращусь к гуру за помощью, подумал я. Может быть, его слово избавит меня от мук.
Колесница остановилась перед монастырскими вратами.
Мукулика была изумлена моим появлением среди ночи и попросила немного обождать.
Гуру выглядел именно так, как подобает старцу, умудренному и книгами, и размышлениями о сути сущего. Лицо его показалось мне знакомым, но вспомнить, где я мог его видеть, мне не удалось.
Да и нужды в том не было — я спешил рассказать мудрецу о своих душевных муках. Но прежде всего я просил у него прощения за неурочный приход и за то, что явился нетрезвым в обитель мудрости.
Читать дальше