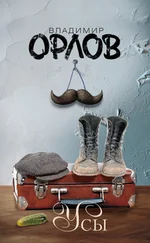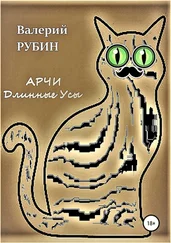Он послушался. Фрида достала пластинки, зажгла свечи, я вставил трубу и завел граммофон.
- Уже можно повернуться? - спросил отец, не выдержав, когда Фрида погасила верхний свет.
- Минутку, - сказал я, - эта чертова труба, думаешь, ее легко закрепить. Фрида кашлянула.
- Какая еще труба? - спросил отец.
Но граммофон уже играл "Придите, детки"; пластинка хрипела, и трещина на ней была, но какое это имело значение? Мы с Фридой стали подпевать, и тут отец обернулся. Он только всхлипнул и схватил себя за нос, но потом прокашлялся и тоже запел.
Когда пластинка кончилась мы пожали друг другу руки и я рассказал отцу, как раздобыл граммофон.
Он пришел в восторг. "Ну, каково? - то и дело обращался он к Фриде, кивая при этом в мою сторону: - Ну, каково?"
Получился, чудеснейший сочельник. Сначала мы пели и слушали пластинки, потом только слушали, но не пели, потом Фрида одна пропела все, что, было на пластинках, потом она еще пела вместе с отцом, а потом мы ели и выпили все вино и опять немножко послушали музыку, а потом проводили Фриду домой и легли спать.
На утро елка еще стояла наряженная. Я валялся в постели, а отец целый день заводил граммофон и насвистывал вторя.
На следующую ночь мы вытащили елку из ванны, сунули ее, еще украшенную станиолевыми звездами, в мешок и понесли во Фридрихсхайн.
Там мы опять посадили елку посреди розовой клумбы. Утоптали землю поплотнее и пошли домой. А утром я отнес назад граммофон.
Потом мы не раз навещали нашу елку, она опять принялась. Станиолевые звезды долго еще висели на ее ветвях, некоторые провисели до самой весны.
Несколько месяцев назад я снова видел елку. Она вымахала чуть не до третьего этажа и в обхвате была величиной со среднюю фабричную трубу. Теперь мне странно себе представить, что она гостила у нас на кухне.
БЕГСТВО В ЕГИПЕТ
До чего же красиво бывало, когда в начале декабря в парке открывали свои палатки торговцы всяким предрождественским товаром. Мы шатались по дорожкам в поисках старых знакомых. Мы знали множество зазывал и владельцев палаток, в основном еще с времен, когда отец работал на ярмарке препаратором в кунсткамере.
Однако на этот раз - была зима двадцать восьмого года, и стояли такие лютые холода, что приходилось подолгу греться в Пергамском музее, - на этот раз мы не встретили никого из старых знакомых. Может, они еще объявятся, а может, было слишком уж холодно, ведь большинство из них - хозяева заведений, персонал которых состоит из одново человека, и ни о печке, ни о другом отоплении нечего и думать.
Но у нас имелась еще одна причина, по которой мы слонялись среди палаток и балаганов. Ведь если не сидеть сложа руки, то можно надеяться заполучить контрамарку на все представления или даже заработать несколько марок.
Прежде всего нас необычайно интересовала выставка редкостей и уродов. Уже при разгрузке огромных дощатых стен и горизонтальных балок внушающего почтение громадного здания мы так рьяно и даже ожесточенно взялись помогать, что, когда отдавались распоряжения на следующий день, к нашему участию отнеслись как к чему-то само собой разумеющемуся.
Над входом, украшенным яркими плакатами и пестрыми транспарантами, высилась башенка с колокольчиками - точь-в-точь пагода. Хозяин выбрал такое оформление, потому что жировые складки у него под глазами сообщали ему эдакую азиатскую раскосость. И в одежде Эде-пагода старался по мере возможности походить на китайца или японца. Но родом он был всего-навсего из Нойкельна {Район Берлина.} и к тому же был слишком высоким и толстым, чтобы его маскировка могла кому-нибудь показаться правдоподобной; только его лысая голова выглядела более или менее убедительно.
Когда его павильон с монстрами уже стоял, отец пошел к нему, пожелал ему удачи в его предрождественских начинаниях и намекнул, в чем мы хотели бы ему помогать.
Эде-пагода угостил отца сигаретой, указательным пальцем, сплошь покрытым шрамами, постучал себя по виску и отвернулся.
Так мы узнали, что в этом декабре на рождественской ярмарке у нас появился враг.
Мы укрепились в своем мнении еще больше, когда узнали, что на выставку редкостей и уродов Эде-пагоды дети не допускаются. И притом вовсе не потому, что дети могут испугаться человека-льва Халефа бен Брезике, а потому, что Эде-пагода не выносил детей.
Фрау Шмидт, уже четырнадцать лет работающая у него самой толстой женщиной в мире, объяснила нам: это связано с тем, что у самого Эде-пагоды слишком много детей, они у него чуть ли не в каждом городе.
Читать дальше