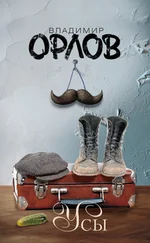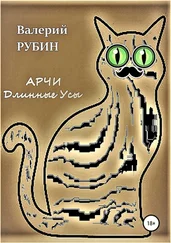Вот и сейчас он старается не замечать выпученного рачьего взгляда хозяйки, пытаясь, как ни в чем не бывало, соскрести маргарин о край сковородки, что ему всегда удавалось с трудом.
Вздох хозяйки и ее "Господи, экий растяпа" стары как мир. И так же как мир Длинный не обращает на них внимания.
Глубоко опечаленный тем, что предстоит разбить нечто столь совершенное, его большой, похожий на лопатку, палец гладит ровную округлость яйца. Как все безупречное, оно теперь будет разрушено в два раза быстрей. Вот Длинный со вздохом размахивается, и желток кипит в жире.
- Боже мой, - со вздохом произносит хозяйка, и лицо у нее делается таким, будто она выпила уксус. Она права, говоря "боже мой", ибо Длинного с его неуклюжестью в пору показывать в цирке. Но вовсе не обязательно произносить это с таким отвращением, ибо стать ловким так же невозможно, как перестать быть неловким. Чего нет, того нет. Оба эти качества дарит судьба, и их обладателям ничего не остается, как щедро распорядиться доставшимся им приданым, что Длинный и делает с полным на то правом.
Вот он выключил газ и достал из хлебницы хлеб. Две высохшие булки, которые он надеялся спрятать там от рысьего взгляда хозяйки, словно сговорившись, падают на пол, и одна из них закатывается под плиту, а другая под буфет, и Длинный, кряхтя, выуживает их оттуда, осыпаемый градом хозяйкиных ругательств.
В хозяйке - метр пятьдесят шесть росту. И Длинному ничего не стоит двумя пальцами подвесить ее к карнизу для занавесок. Но он не помнит зла. А потому, не отвечая на ругань, снимает сковородку с плиты и, втянув голову в плечи, идет в свою комнату. Посреди комнаты он вдруг останавливается, вспомнив, что забыл что-то. И пока он так стоит, наступает вечер, и вместе с наплывающими тенями приходят новые мысли; он снова думает о пальме, своем любимом дереве, об альбатросах и чайках, о залитых светом океанских лайнерах, и румба судового оркестра сливается с плачем гавайских гитар, а с одного из островов - в путеводителе они именуются райскими - доносится страстный рокот барабана, становится громче, нарастает... Дверь распахивается, и в лазурном ореоле кухни-дворца стоит хозяйка: ей нужна сковородка.
Испуганно, отрезвленно Длинный протягивает ей сковородку. Но на ней яичница. Она успела остыть и, поскольку жира в ней и так почти не было, пристала ко дну. Смущенно покашливая, Длинный соскребывает яичницу, и хозяйка оглушительно хлопает дверью.
Сердце Длинного готово разорваться на части. Он больше не в состоянии есть, шум ранит его душу; трех хлопнувших за день дверей достаточно, чтобы его убить: он болен теперь; дрожа, он кладет хлеб на ящик с цветами, двадцать семь хозяек колотят в раскаленные стенки его висков, выскребывают яичницу из остывших сковородок и что есть силы хлопают дверьми.
Совершенно разбитый, он придвигает два стула к краю клеенчатой кушетки и ложится. Еще ни разу ему не довелось лежать на кушетке, вытянув ноги. Фабриканты кушеток не принимают великанов в расчет. Их никто не принимает в расчет.
Сумрак в комнате становится гуще. Надвигается ночь, появляются звезды. И Длинный размышляет о том, что, быть может, есть еще длинные.
Не то чтобы он чувствовал себя одиноким, вовсе нет.
Одиночество он считает в порядке вещей. Но порой ему было бы приятно сознавать, что он не единственный сто-девяностодевятисантиметровый; нередко он кажется себе таким старым и многомудрым, часто его охватывает чувство принадлежности к некоему доисторическому ордену великанов, который поручил ему хранить свои заветы на этой земле. И конечно же, Длинному хотелось бы знать, в чем тут дело, и все ли длинные ощущают свою принадлежность к этому ордену.
Внизу проехала машина. Окно вырвало из света фар расчетверенный прямоугольник, который скользит по потолку, сдвигается в ромб, катится по стене вниз и гаснет.
Длинный слышит радио соседа слева, передающее новости. Приемник соседа справа настроен на джаз. У Длинного же - тишина. Он хочет только тишины. Но он знает, что тишина - это неизвестное, что ее нужно делить на бесцеремонность, радио и любопытство соседей.
С нею дело обстоит так же, как и с желанием остаться незамеченным. Этого он жаждет больше всего; каждый день он мечтает об этом. Но стоит ему перейти улицу или, втянув голову в плечи, войти в трамвай, как вокруг вытягивают шеи, начинают шушукаться, хихикать. И дети, всегда отличающиеся особой добротой, кричат ему вдогонку "верзила", "каланча", "телеграфный столб", "дядя, достань воробушка".
Читать дальше