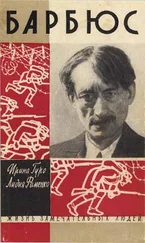- Держи карман шире! - хрипит буян, размахивая руками, как будто его кто-то держит. - А я называю это ханжеством. Вот как я это называю.
Все пожимают плечами. Жозеф Бонеас, неизменно выдержанный, улыбается.
- Богатые всегда были, - говорю я, поощренный его улыбкой. - Они нужны.
- Понятно! - трубит Крийон. - Все это давно известно, стоит только пошевелить мозгами. Но я вот что скажу: некоторые от зависти лопнуть готовы. Я же не из тех, кто лопается от зависти...
Мьельвак надел шляпу на свою окаменевшую от испуга голову и идет к двери. Жозеф Бонеас тоже поворачивается и уходит.
Вдруг Крийон кричит:
- А-а, вот и Петрарка! - и устремляется на улицу, следом за долговязой фигурой; а та, завидев его, только шире раздвигает длинные ноги и постыдно удирает.
- Вы подумайте, - скорчив страшную гримасу, говорит Брисбиль, когда Крийон испаряется, - ведь этот шут - муниципальный советник! Дьявол его!..
Брисбиль весь кипит и трясется от ярости. Вот он нетвердо стоит на ногах, уставившись глазами в пол. И крутит, и так и этак вертит, мусолит и склеивает лохматую, уродливую папиросу.
Рыча, втянув голову в плечи и хромая в дырявых шлепанцах, как Вулкан, кузнец бросается к горну и дергает цепь мехов. Каждый взмах мехов со свистом выбрасывает из пасти горна, насыщенной угольной пылью, голубоватую комету, изборожденную белым, потрескивающую и ослепительную. Кузнец бьет молотом.
Он взбудоражен, он побагровел, он пригвожден к своему углу, как узник, единственный в своем роде, объявивший бунт необъятности вещей.
* * *
Звонят к мессе, и мы уходим. Вдогонку нам несется брюзжание Брисбиля. Досталось и мне. Но что мог он выдумать против меня!
На церковной площади все снова встречаются - разношерстное сборище. В квартале, за исключением немногих рабочих, которых держат на примете, все ходят к мессе, и мужчины и женщины: из приличия, в угоду владельцам замка, хозяевам, либо по убеждению. К площади ведут две улицы и две дороги, обсаженные яблонями; эти четыре пути приводят сюда и город и деревню.
Площадь по форме напоминает сердце. Как она хороша! На нее падает тень векового дерева, под которым в старину вершили суд; вот почему его называют "Большое дерево", хотя есть деревья и выше и ветвистее. Зимой оно черное, как дырявый дождевой зонт; летом оно отбрасывает светлую тень, как зеленый зонтик от солнца. Рядом с деревом - высокое распятие, давний обитатель площади.
Площадь кишит, волнуется. Окрестные крестьяне в ситцевых колпаках без кисточек ждут на старом углу Новой улицы, тесной кучкой, как яйца в лукошке. Все эти люди нагружены снедью. Вот по диагонали пересекает площадь крестьянка с огромной черной сеткой в руке; сетка топорщится, и женщина держит ее на весу, как мясную тушу. На каменных плитах мостовой - в силуэтах, точно нарисованных углем, и лицах, румяных, как яблоки, - видишь лубочную картинку. Стаи ребятишек носятся и щебечут; девочки играют в куклы, изображая матерей, мальчуганы играют в разбойников. Горожане держатся чопорнее крестьян и в ожидании мессы благопристойно говорят о своих делах.
А дальше - дорога; апрельское солнце вдоль линии деревьев украсило ее кружевом тени и золота; звенят, как электрические, звонки велосипедов, стучат колеса экипажей; сверкающая река, полотнища воды, по которым солнце расстилает полотнища света и разбрызгивает слепящие точки. Слежу глазами за дорогой: рядом с утрамбованным, твердым шоссе - мягкая, вспаханная земля; многоцветные полосы, сшитые одна с другой (сукно грубошерстное и сукно бильярдное), постепенно бледнеют в пространствах. Местами в эту цветную карту вкраплены леса. Проселочные дороги обсажены деревьями, которые доверчиво следуют друг за другом, а на лугах стада овец, словно игрушечные.
Знакомый, милый пейзаж. Ночью прошел дождь, и сейчас эти омытые камни, заново отлакированные черепицы, крыши, то серые, то солнечные, блестящая мостовая в разводах лужиц, нежно-голубое небо в облачках из папиросной бумаги, соседняя колокольня - похожая и не похожая на нашу - между двух зданий, желтых, как охра, тронутая коричневой краской, на лиловом бархате дальних лесов - это акварель. Взгляд ловит видение, радостное, точно радуга.
С площади, где чувствуешь себя свободно, как дома, входим в церковь. Из-за чащи свечей кюре бормочет что-то - нескончаемую проповедь, благословляет, обнимает всех и каждого, отечески и матерински. Впереди всех на господской скамье - маркиз де Монтийон, похожий на офицера, и его теща, баронесса Грий, одетая, как простая дама.
Читать дальше