Куда тяжелее Большакову было глядеть на обрубленные снарядами кроны яблонь и груш, на траншеи, перерезавшие поперек деревенские улицы, на сожженные избы, на сельское кладбище, опоганенное рядами немецких неструганых березовых крестов. Запустение и безлюдье, отсутствие жителей с их нехитрым уютом и запахом хлеба, печенного на поду, толченой картошки, горячего молока наводили на мысль, что еще одной, новой, войны в самом деле не будет. Эти скаты высоток, луга и поля можно взять без единого выстрела. Просто некому будет их защищать. Просто больше никто не поселится здесь, а в полях ничего не родится, кроме горькой полыни, пустырника, череды да колючих репейников.
Фронтовые дороги осели под солнцем. Колеи — словно реки с бегущими параллельно друг другу могучими руслами. На машинах ни взад ни вперед не проехать: и полуторки, и трехтонки садятся на дифер, скребут ржавыми днищами разделяющий эти русла и сразу же вспучившийся горбом, но не тающий лед. И Сергей, наблюдая залитые желтой жижей сырые траншеи и эти дороги, не заметил — то ли с вешними водами по оврагам, то ли с ветром прилетевшим из-за южных морей, не двуногий же проскользнул через линию фронта, но пришла все же весть из немецких тылов: как сражались бойцы Марухненко, не сдаваясь, до последней гранаты. Как кружили отдельные группы разведчиков из отряда, минометчики, пушкари, протащившие на себе тяжеленные пушки, позднее уже без снарядов, как опять и опять возвращались к шоссе, не найдя больше выхода через огненное кольцо. Как висела на площади в Стоколосе не известная никому молоденькая партизанка рядом с матерью двух сыновей, партизана и полицая. Как стояла она перед виселицей, перед казнью, с заплывшими кровью глазами, может, даже слепая, вся избитая дочерна… А кто говорил, что бежала она, та молоденькая партизанка, и убита уже при побеге. И теперь Большаков, вспоминая о Лиде, странно морщился, хмурился. При одном ее имени у него страдающе передергивалась вся кожа лица, все морщинки на лбу, а в сердце так и не заживал болезненный, водянистый ожог: «Убита… девчонка, ребенок совсем. А я жив! Я мужчина, солдат… Уж лучше бы я, не она…»
Когда в небо зеленым, глазастым, раскосмаченным демоном взлетела ракета, чтобы полк его снова опять и опять пошел на высоты, на проклятую Александровку — ее иначе и не называли теперь, — он поднялся с единственной мыслью о Лиде: отомстить, отплатить фашистам за все. А теперь, отомстив, почему-то не чувствовал облегчения. Нет, ожог набегал, наплывал на ожог, все горело внутри, и Сергей уходил один в лес, весь в плешинах от черных проталин, и садился на срубленное бревно иль на старый, изъеденный пень, и сидел в одиночестве, лицом в руки, безжалостно, с горечью осуждал себя.
Лида… Сколько радости принесла бы она… Хоть тому же Степану! Или горя. С ее-то упрямым, нелегким характером, может быть, что и горя. Но и горе из рук ее — для него тоже радость. А, видать, рассчитала себя, свою жизнь не на день, не на час, а на долгие-долгие годы, на победы и на отступления и на все километры дороги, ведущей к Берлину. Чтобы всюду на этом пути оставаться достойной…
Нет, такой ей — отважной и гордой и всегда неуступчивой, — наверное, было бы и не дожить до победы. Не сносить головы… Это точно уж! Абсолютно уж точно.
Черт возьми! Почему это так? Один человек может жить и погибнуть во имя великой и светлой идеи. А другой может жить и погибнуть во имя идеи коварнейшей, самой черной и вероломной. И это — все то же разумное существо, та же беззаветность, те же самые упорство и отвага…
Может быть, нужно думать и думать и пытаться понять тех, кто думает по-другому? Но врагу разве важно, что я понимаю его? Ему дела нет, что я думаю, как я мыслю. Ему просто нужна моя жизнь — жизнь защитника Родины и земля, на которой живу. И я, в свою очередь, не хочу для него оправдании. И, по-моему, это даже страшней, еще хуже: понимать, а потом убивать… Это вовсе уж ни к чему.
Нет, наверное, он никогда не поймет ни грабителя, ни убийцу, не найдет оправдания им, размышлял Большаков, И, поднявшись с бревна, брел, понурившись, по размытой дороге опять к себе в полк, в надоевшую, полную ледяной подпочвенной воды, продымленную землянку.
1
Суховершино — синее, зеленое в свете луны…
Сейчас за окном вагона промелькнут обгорелые трубы домов, груды битого камня и щебня; опять, как тогда, затеплятся, побегут по кремнистым сугробам лиловые, дымные всполохи отдаленных пожаров…
Читать дальше
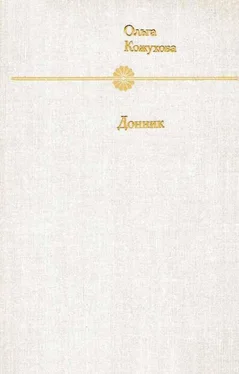

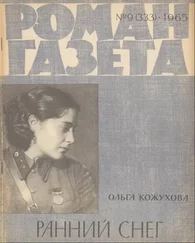
![Ольга Кожухова - Молчание неба [Избранное]](/books/421815/olga-kozhuhova-molchanie-neba-izbrannoe-thumb.webp)

