Увидев Лиду, отец разогнулся.
— А ты где это ходишь? — спросил он, стоя в кузове. — Давай собирайся скорей. Уезжаем…
— Как?! Куда?! — Лида коротко ахнула. Она позабыла на миг, что ни отец и ни мать уже больше не могут приказывать ей. Не родители, а любой старшина, лейтенант или еще кто-либо старший по званию теперь будет распоряжаться: оставаться ей или уезжать.
А отец разогнулся, объяснил торопливо:
— Хватит! Кончено! Едем к тетке твоей в Балабаново! — и схватился за угол подаваемого шофером мешка, громко крякнув, присел, взвалил его себе на плечо, затем с осторожностью уложил возле стенки кабины. — Ты не видишь, что делается? Еще раз налетят, и, считай, Суховершина нету. Все в щепы разнесут!
Ветер нес по проулку удушающий запах горелого зерна и крашенного масляной краской железа — черный запах беды: где-то, видимо, догорали дома, подожженные с воздуха. Но для Лиды сейчас ни пожар, ни отцовские сборы не имели значения. Даже жизнь свою она не поставила бы рядом с тем, что делалось там, на заросшем сосною и елью бугре, возле здания школы.
— Хорошо, поезжайте, — сказала она. — Я не поеду.
Отец так и присел на край бочки с капустой.
— Это как — не поеду? — спросил он изумленно и спрыгнул на землю. Не глядя на дочь, разбитой походкой, прихрамывая — в ногу ранен был под Шяуляем, — пошел в избу.
Лида молча, спокойно пошла за ним следом.
— Это что еще значит? — спросил ее в горнице отец, присев на лавку. Он дышал тяжело, глянул исподлобья. — Это как не поедешь?
— Я в госпитале остаюсь. Медицинской сестрой.
— А ты спрашивалась? Кто тебе разрешил? — отец вскинул чубатую голову. Его ноздри раздулись. — Ишь чего удумала! — Отец говорил почти те же слова, что и Яков Прудников на переправе. Лида даже упрямо нахмурилась, как тогда, на лугу: — «Не поеду»! — отец горько, с насмешкой передразнил ее. — А кто тебя спросит, поедешь ты или нет! Прикажу — и поедешь!
— Я больше не вольная, папа. Призвана в армию. Вот повестка. — Лида протянула ему бумажку, отступила и встала у печки.
— Мать, ты слышишь, что дочь-то твоя говорит? — Отец вдруг застыл потрясенно, суровый, угрюмый. Потом встал, тряхнул темной курчавой, седеющей головой — и снова уселся на лавку. — Ну, мать… Это что же такое, а?
Мать стояла печальная, в черном платке, уставившись в красный угол, на иконы — расшитые полотенца с боков она давно по-хозяйски сняла; пол был густо затоптан, залеплен окурками. Тут и там валялись клоками солома, сенная труха. Как клали солдаты под голову на ночлег, так и осталось неубранным — на дорогу-то не метут, назад ходу не будет!
Осторожно, как будто слепая, мать коснулась рукой потемневшего от времени створчатого шкафа. Чашки, кружки и плошки, стоящие в нем, одним своим видом напомнили ей о прошедших годах, о замужестве, о мирном взрослении дочери под этой соломенной крышей. Разве все это позабудешь, от себя оторвешь? Да и как это взять и уехать, бросить все нажитое? Это значит по собственной воле оставить кровать, и укладку, и стулья, и зеркало на простенке, и гераньки, цветущие в плошке, и все милое, дорогое для сердца — под снаряды да бомбы, на погибель да на разор? Шоферишка-то, каменюка заместо души, взялся только их самих довезти да харчи, а про все остальное и слышать не хочет…
Мать прерывисто, со слезами вздохнула.
Да, все видела в жизни — и болезни, и недород, и всякую думу за годы-то передумала, но только лишь одного не обдумала, что пойдет в чем была в неизвестность, в метель да мороз.
От окрика отца мать очнулась, взглянула на Лиду — и беззвучно заплакала. Слезы тихо текли по морщинистым, темным щекам, мать их смахивала ладонью, промокала концами головного платка, а они все бежали, уже беспрерывно, как будто бы существовали независимо от нее.
— Лида, дочушка…
— Мама… Я ведь все объяснила, — ответила Лида. — Завтра мне на работу, — сказала она.
— Да ты что, моя милая? — Мать прижалась к высокому Лидиному плечу. Она с ужасом осознала, что все рушится сразу: и хозяйство, и дом, и семья, но не верила этому, не хотела поверить.
Со двора, от ворот, посигналил шофер.
— Ехать, старая! Ничего не поделаешь… Одевайся! — сказал наконец от порога отец. Он почувствовал вдруг в решении дочери и свой собственный неуломный характер. Подняв с пола туго набитый мешок, вышел в сени, согнувшись под тяжестью неподъемной поклажи, сказал Лиде, не глядя в лицо:
— Ну, смотри, дочка, плакать будешь, да слезка никто не утрет!
Читать дальше
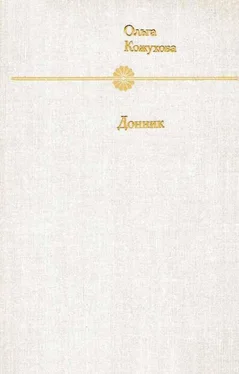

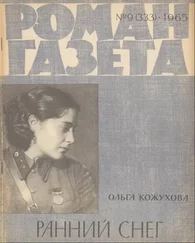
![Ольга Кожухова - Молчание неба [Избранное]](/books/421815/olga-kozhuhova-molchanie-neba-izbrannoe-thumb.webp)

