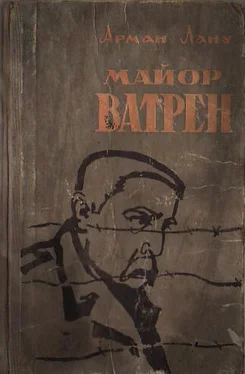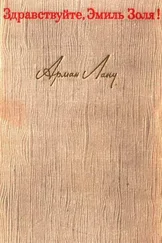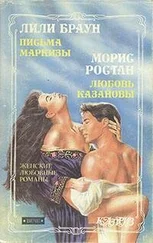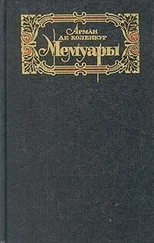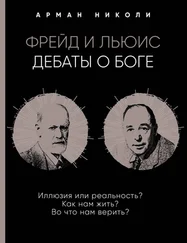Эберлэн, неспособный отдаться какой бы то ни было умственной деятельности, чувствовал плен гораздо острее, его лихорадочное состояние можно было простить. Именно оно оживило в Субейраке сомнения, исчезавшие по мере того, как в нем умирал свободный человек. Он взял записную книжку, в которую беспорядочно заносил свои мысли, цитаты, режиссерские заметки, и стал писать:
«Этого не понять тем, кто не был вместе с нами. Может быть, это лишь случайное ощущение, но первая попытка к бегству явилась для нас неожиданностью. Она произошла полтора года назад. Три офицера бежали вместе. Их вскоре задержали в нескольких десятках километров от лагеря. На них были штаны из мешковины и резиновые плащи, залепленные грязью, потому что они шли по заболоченным ландам. Мы смотрели на них с удивлением и восхищением, смешанным с какой-то жалостью. Их побег удивил нас не меньше, чем немцев. Ни охранники, ни охраняемые не сомневались тогда в невозможности бегства. Европа была захвачена, Швейцария — за тысячу километров, Польша — рядом, но завоевана, от Швеции нас отделяло море и, кроме того, она совершенно изолирована от нашей страны. Россия близка, но таинственна и непонятна. Только не совсем нормальные люди могли вообразить, будто можно сразу вернуть себе свободу и Францию! То обстоятельство, что мы были взяты в плен непосредственно перед перемирием, вселяло до сих пор во многих из нас успокоительные надежды на скорый мир».
Он писал твердым и остро отточенным карандашом очень мелко, чтобы легче было спрятать свои записи во время частых обысков.
«В сущности, — подумал он (но не записал), — мы под наркозом. Обещания продолжаются: завтра, morgen früh. Если Франция станет на путь сотрудничества с Европой… Наркоз! Пожалуй, Эберлэн прав! Да, приспособившийся». Это скромное слово оскорбляло сильнее, чем брань.
Камилл вернулся с прогулки, держа в руках «Поммерше цейтунг». Тома Каватини перелистал газету и заметил:
— Ребята, сегодня их девять!
Он сосчитал траурные объявления о военных, погибших на восточном фронте, — девять маленьких крестов в черных рамках, выделяющихся на белой бумаге.
— Тото, — сказал Камилл, — это отвратительно. Радоваться смерти хотя бы врага — недостойно христианина.
— Пе-пе-пеги… — начал Тома.
Упоминание о Пеги вызвало общий протест. Не потому, что Пеги, о котором без конца упоминалось после Национальной революции [37] «Национальной революцией» вишисты называли события, приведшие к образованию правительства Петена.
, всем надоел, а просто потому, что было невыносимо слушать, как Тото заикается: «Б-б-блаженны созревшие з-з-злаки». Отрывистый стих поэта в сочетании с дикцией его поклонника представлял такую же неудобоваримую смесь, как и этуф-кретьен.
Тото нахмурился:
— Я с-с-считаю, так же, как и Симон де Монфор, что господь узнает своих [38] Симон де Монфор — полководец XII в. Здесь имеется в виду его ответ на вопрос, как отличить еретиков от верных христиан: «Бейте во славу господа тех и других, господь признает своих».
. — Он выговорил это на одном дыхании. — И кроме того, им нечего бы-бы-было соваться!
В раздражении он стал, фальшивя, напевать одну из своих любимых песенок:
Ах, телячья голова,
Ах, она кипит в котле,
Ах, кипит, но не для нас.
Эти странные слова говорили о печальном детстве в рабочем поселке на Севере, где даже телячья голова, сваренная в котле, считалась роскошью.
Франсуа сделал усилие, чтобы не слушать. Он записал:
«Ни пленные, ни охрана не верили в возможность побега, хотя мысль о нем не должна была бы покидать ни тех, ни других. Побег стал не более, чем игрой, тщетной попыткой, направленной скорее на то, чтобы нарушить монотонное течение жизни, нежели на то, чтобы обрести свободу».
Он искренне верил в то, что писал. Германия в целом представлялась ему скорее пассивной, чем злобной; опасность, казалось, заключалась в самом факте существования этой огромной аморфной массы, а не в ее враждебности. Это ощущение лишь усилилось от того, что наказания за неудавшийся тройной побег были очень мягкими: кратковременное лишение табака, более строгий контроль во время прогулок и нарядов в лес и один-единственный раз — тщательно произведенный обыск. Конечно, вскоре все это переменилось, особенно после удачного побега сына одного известного генерала и его двух товарищей. Об их успехе стало известно по следующей иносказательной фразе в одном письме: «Лондонский зоопарк обогатился тремя новыми животными — львом, леопардом и броненосцем». «Броненосец» — было прозвище сына генерала. Им удалось бежать через Россию, где их интернировали на несколько месяцев. Но потом все это изменилось. Особенно в июне 1941 года, после начала войны с Россией. Однако вслед за шоком поражения стал действовать наркоз коллаборационизма.
Читать дальше