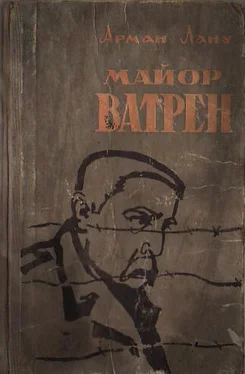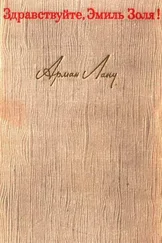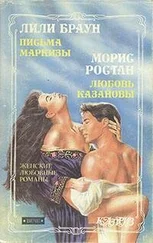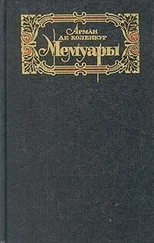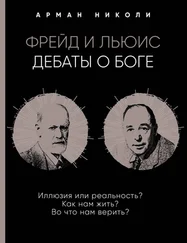Каватини вернулся минут через двадцать. Первый акт еще не кончился. В зале кашляли, аплодировали, смеялись. Постановка и игра Камилла безусловно завоевали признание зрителей. Однако о пьесе в целом нельзя было еще сказать, принята ли она публикой. Смягчит ли горечь, заключенная в пьесе Салакру, ту тоску, которую испытывали пленные, или же, наоборот, усилит ее? Это было пока неизвестно.
Франсуа обернулся. Тото нигде не нашел майора. После обеда майор приводил в порядок свои вещи. У Тото сложилось впечатление, что трое товарищей майора по комнате обещали молчать и держали свое слово.
Представление продолжалось, но стало каким-то тягучим, ненужным. Как полагается, в антракте за кулисы явились старшие офицеры. Адмирал высказал свое одобрение, несколько любезностей произнес фон-Шамиссо.
Во втором акте Коко пропустил свой выход и, растерявшись, ослепленный светом рампы, чуть не плача, стоял такой трогательный, настолько похожий на молоденькую, смущенную девчонку, что публика зааплодировала, дав ему возможность прийти в себя.
В третьем акте что-то случилось с декорацией, и Ван вместе с Параду починили ее во время действия — никто ничего не заметил.
Франсуа видел все это, словно в тумане. Этот театр, которому он отдал столько труда, лишился для него всякой реальности. Тоскливое чувство не покидало его.
Спектакль шел к концу.
Жан-Луи, отлично владевший собой, произнес свою реплику, которую Франсуа знал наизусть и любил за горькое высокомерие и пессимизм: «Наше счастье причиняло тебе боль, твое счастье вызывает у меня жалость! Современные мужчины имеют таких женщин, каких они хотят и каких они заслуживают. Тем хуже для тех и для других! Но я говорю тебе, что так не может продолжаться. Поэтому я ухожу в пустыню и буду дожидаться там нового поколения. Прощай!».
Публика наградила Жана-Луи долгими, шумными аплодисментами. Зрители одобрили спектакль. Это был успех. До конца оставалось не больше десятка реплик, публика все еще аплодировала, как вдруг двери театрального зала распахнулись и трое немцев во главе с «Человеком-который-не-получает-удовольствия» торопливо подошли к адмиралу.
Адмирал встал, повернулся к своим подчиненным, те сразу вытянулись, как марионетки. Зрительный зал тем временем шумно выражал свое удовлетворение. Фон-Шамиссо надел фуражку и выбежал. Двое немцев что-то закричали, но никто не услышал их — неистовый шум в зале возрастал и становился почти неправдоподобным. Адмирал фон-Мардрюк тщетно напрягал свой голос. Наконец раздался свисток. Все замерли и стоя смотрели на серо-зеленый первый ряд, где сидели немцы. Посреди сцены находились испуганные актеры, из-за кулис глядели машинисты, суфлер, Субейрак. Сразу установилось напряженное молчание.
Адмирал сделал несколько отрывистых распоряжений и затем сказал что-то резким тоном.
Французский переводчик произнес:
— Немецкий начальник лагеря извещает, что ввиду чрезвычайных обстоятельств офицеров просят немедленно разойтись по своим баракам.
Последовало всеобщее изумление, раздались ненужные вопросы, поднялась тревога, страшное возбуждение. Сразу возникли различные слухи: русские… союзные парашютисты! Толпа бросилась к выходу, но отпрянула с возгласом недоумения: у дверей стояли немцы с автоматами на изготовку.
Изысканная театральная любезность исчезла. Офицеры возвращались в свои бараки группами по двадцать человек. Мало-помалу стало известно, что случилось. Подкоп. Подкоп. Подкоп. О существовании подкопа знали многие. Немцы тоже повторяли это слово. Друзья тех, кто готовился к побегу, уже не скрывали, что он был назначен как раз на то время, когда шел спектакль. Шестьсот человек, оставшиеся в зрительном зале, сплотились в сомкнутую массу, отказывающуюся повиноваться, несмотря на бешеные крики конвоиров. Удары прикладов вызывали возмущение. Положение было серьезно: зная обстоятельства дела, лагерь реагировал на случившееся беспорядками, рассчитывая выиграть время. Затем разнесся другой слух: подкоп, кто-то убит.
— Видишь, — сказал Ван, обращаясь к Франсуа, — этот негодяй Эберлэн не предупредил тебя, что они воспользуются представлением для организации побега.
— В общем, посадили нас по самые уши в лужу, — сказал Камилл.
Он все еще не снял женского платья, и странно было видеть красивую, хорошо одетую девушку среди мрачной толпы людей в поношенных мундирах.
Франсуа представил себе грустное, подавленное лицо Эберлэна, кадрового офицера, вечного беглеца. Может быть, это он убит?
Читать дальше