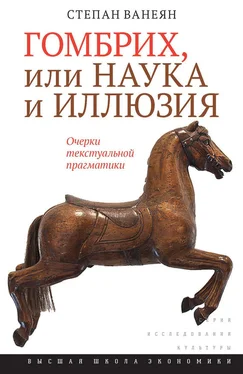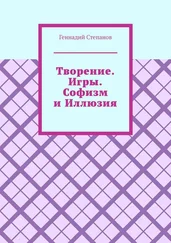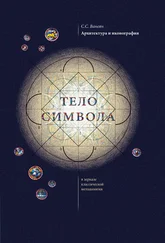…он вовсе не предполагает построения фиксированного значения, когда создает свой экзегетический фейерверк [292].
Для него важны именно «сдвиги и трансформации сигнификации согласно собственным намерениям (requirements)». Но одна из сигнификаций для нас принципиальна – эстетическая, когда именно грации обеспечивают привлекательность и красоту истины, и мы это чувствуем в той же музыке (комментарий Фичино на «Пир»).
Грации обеспечивают чувствительность к истине, и переход от этического значения к эстетическому становится возможным как раз потому, что наличествует единый и сквозной опыт восприимчивости, пусть и в разных сенсорных модальностях, вернее сказать, в разных режимах и условиях созерцания.
И оно – сродни чтению, которое сродни структуре самого языка. И если мы имеем дело с астрологическиоккультной неоплатонически-христианской экзегезой, то мы вынуждены признать (вслед за Гомбрихом), что речь идет об очень странном языке, в котором нет «фиксированного значения» и по этой причине нет своего словаря, а значение зависит от ситуации, и смысл употребляется согласно его «приемлемости» [293], то есть «слово» используется согласно его месту в позиции и в ситуации говорящего: интерпретация связана буквально с положением говорящего в соответствующем контексте.
Отсюда – существеннейшая переинтерпретация со стороны Фичино знаменитых четырех модусов экзегезы: они для него уже не уровни, ступени или степени измерения, аспекты единого смысла единого произведения, а варианты, просто типы значения, употребляемые согласно обстоятельствам, то есть месту, буквально ситуации. Более того: выбирать уместный в данных условиях тип значения – прерогатива интерпретатора, а его сознание и состояние этого сознания – решающий фактор. В примечании к этому месту у Фичино Гомбрих разворачивает свою собственную концепцию прямого и переносного значения, вернее, указывает на когнитивные трудности, подстерегающие тех, кто принимает восходящий к Аристотелю «эссенциализм» в понимании того, что есть значение (это традиция и Гуго Сен-Викторского, и Фомы Аквинского, и того же Поппера). Указание Гомбриха состоит в том, что присущий вещам реального мира множественный символизм (все вещи связаны друг с другом и друг друга подразумевают) по ходу интерпретации транскрибируется в «дискурсивный язык концептов», что заставляет лавировать между Сциллой фальсификации этого языка и Харибдой соблазна отдаться иррационализму символического способа мышления. Последний соблазн весьма тонок, так как речь идет о желании адаптироваться к бессознательному вместо его перевода на язык понятий [294]. Можно заметить, что опасности не столь страшны, чтобы поминать мифических чудовищ: скорее перед нами разные стратегии восприятия символизма и разные практики обращения с ним. Хотя понятно, что Гомбрих предпочитает рациональность как внятность и открытость смысла навстречу свободной коммуникации. Если говорить еще более строго, то можем допустить, что модальность значения соотносится с модальностью сенсорики вообще, которая, в свою очередь, – с модусами миропереживания (если не мироустроения).
Отсутствие устойчивого и конвенционального общеупотребительного языка – признак именно экзистенциального уровня интерпретации, где все открыто и свободно, где подвижность и произвольность смыслополагания – признак значимости, значительности и реальности экзегезы в качестве, быть может, воспроизведения-реконструкции или репродукции процесса смыслоисполнения: экзегеза как вторичная ноэза…
От аллегории толкования к удовольствию от апологии
Хотя, если следовать рассуждениям Гомбриха, специфика такого типа языка – в отсутствии фиксированных правил пользования, как это полагается в настоящем языке. Но если нет синтаксиса, то нет и подлинной семантики, нет и коммуникации (прагматики). Зато есть «правила примитивных ассоциаций» [295], восходящих к традиции средневековой экзегезы, которая, в свою очередь, – прямая наследница античной герменевтики.
Именно это затрудняет нам чтение таких текстов, составленных на таком языке, где есть узкая система значений, но нет, повторяем, столь же определенной системы пользования, нет «конвенционального посредника» между словарем (его тоже нет, кстати говоря) и ситуацией употребления. Поэтому так важен контекст, который может быть весьма разнообразным, и потому столь подвижны эти ассоциации, не связанные с прямым значением употребляемого термина. Этот контекст и задает значение того или иного высказывания в том или ином тексте. Гомбрих в этой связи весьма тонко замечает, что мифический, архаический и сакральный по сути своей символ выступает всего лишь как «резервуар» значения, а не в своей подлинно языковой функции – как средство коммуникации, ведь
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу