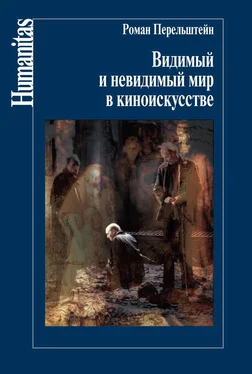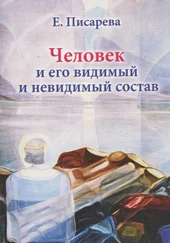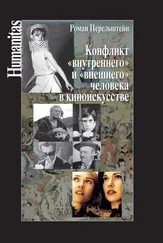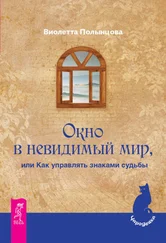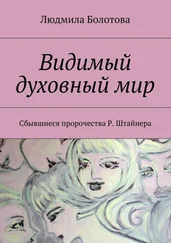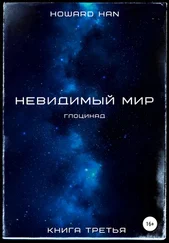В песне, которая льется со сцены, говорится о счастье. Счастье – это любить и быть любимым, счастье – петь дуэтом. Наконец, счастье – это простые мелочи жизни, которых даже здоровый человек, не умеющий оценить их, может быть лишен, не говоря уже о тяжелобольном.
Кристина, которая только что была королевой бала, оказывается чужой на празднике жизни. Но его огни, краски, звуки продолжает манить ее, вселять надежду. Возможно, она высматривает Куно, но об этом мы можем только догадываться. Вот она делает шаг навстречу празднику, самой жизни, но, то ли передумав, то ли нам это только показалось, что она сделала шаг навстречу жизни, опускается в инвалидное кресло. За ним неприступной скалой возвышается миссис Хартл. Уж у нее-то нет никаких иллюзий относительно Кристины, да и самой себя.
Склонившись над Кристиной, ощущая свою полною власть над нею, миссис Хартл что-то говорит ей, но молодая женщина, слабо улыбаясь и не реагируя на благоразумные доводы сиделки, продолжает бороться с судьбой. Медленно коляска с Кристиной выплывает из кадра, а на черном фоне продолжает звучать песня о счастье.
Однако заканчивается фильм наложением на титры знаменитой хоральной прелюдии Иоганна Себастьяна Баха «Я взываю к Тебе, Господи Иисусе Христе», той музыкой, которая сострадает человеку, которая никогда его не предаст. Именно это произведение Баха прозвучит в финале «Соляриса» А. Тарковского. Оно будет зарифмовано Тарковским с кинематографической аллюзией на картину Рембрандта «Возвращение блудного сына».
В чрезвычайно важном музыкальном комментарии обнаруживается авторская позиция, которую Джессика Хауснер словно бы скрывала на протяжении всего фильма. Хауснер не мешала зрителю самому сделать выводы и решить в положительную или в отрицательную сторону вопрос о возможности чуда, о его связи с верой. Если бы картина закончилась зажигательным хитом «Феличита», то режиссерскую работу Хауснер можно было бы записать в разряд провокации, эскападой в адрес религии. Судьба Кристины превратилась бы в разменную монету, в инструмент антицерковной полемики.
Трансцендентальное кино никогда не стремится к подобному. Избегает оно и открытой декларативности, создающей «иллюзии священного», что позволило Полу Шредеру закрепить за этой тенденцией определение «религиозный» фильм.
Евангельское чудесное исцеление тяжелобольного – это и метафора духовного преображения, и те изменения физического состояния, которые происходят в результате кропотливого собирания личности в единое неиссякаемое целое. Героиня фильма вроде бы не из тех, чья вера горами двигает, однако ни окружающим, ни нам, ни ей самой неведомо, что происходит в душе, чутко прислушавшейся к тайне жизни, к каким изменениям она готова. Если допустить, что Кристину ставит на ноги внимание, проявленное к ней гвардейцем Куно, и ее любовь к нему, то его же малодушие и выбивает почву из-под ног молодой женщины.
«Лурд» не «религиозный» фильм и не антиклерикальный. В нем, как в любом подлинном произведении искусства, присутствует та недосказанность и невыразимость, с которыми связано представление о жизни как тайне. Такова апофатическая интуиция искусства. Причем тайна эта никогда не будет раскрыта. Но подобное отрицание не есть отрицание головное. По выражению С. Булгакова, «дню рассудочного отрицания» в апофатическом богословии предшествует «ночь, полная голосов и переживаний иного мира» [152]. В этой символической ночи к «нет» присоединяется «сверх» как новое качество отрицания, являющееся одновременно и утверждением. Другими словами, тайна жизни не может быть раскрыта и может , когда человеку удается погасить в себе все себялюбиво мелкое, когда удается однажды или раз и навсегда пробить свое «я» и встретиться с самим собой на глубине глубин. Не в этом ли и состоит подлинное чудо?
Парад планет относится к тем космическим явлениям, которые сопровождаются многочисленными предсказаниями о невиданных катаклизмах. Комментируя это явление, советская пресса писала, что уже несколько раз объявлялись конкретные даты конца света, всемирных потопов и других апокалипсисов, не забывая оговориться, что до сих пор ничего сверхъестественного не произошло. Однако катаклизмы, пусть и не природные, а социальные, уже назревали.
Середина 80-х – время переоценки ценностей, крушение одного социального мифа и рождение другого.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу