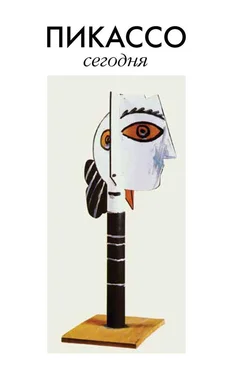«Second Postimpessionist Exhibition» стала событием не только для Лондона – о ней заговорили и в России, а «англичанин Анреп» прославился в художественных кругах Москвы и Петербурга еще раз. Малевич явно почитал его за «своего» и тут же включил в формирующийся орден, о чем свидетельствуют изображенные атрибуты, и в первую очередь – рыба, некогда намекавшая на гонимых первых христиан, которые «не могут жить без веры, как рыба без воды». В аналогичной ситуации оказываются и представители нового искусства. О неких таинственных замыслах должны говорить и другие символы: горящая свеча (знак бдительности и присутствие духовного начала), лестница с семью ступенями (одна из них закрыта изображением сабли), что обозначает духовное восхождение, модель центрического храма («храма мудрости») и, наконец, сабля, намекающая на боевой дух новообращенных (вернувшись в Россию, Анреп стал офицером русской армии). И по всей видимости, именно к Анрепу обращена надпись «ЧаСТичное ЗАТМЕНИЕ», поскольку «англичанин» (естественно, любитель лошадей, о чем свидетельствуют слова «скаковое общество») не до конца проникся новейшими исканиями в искусстве. Известно, что, приняв творчество Ларионова и Гончаровой, Анреп не понял кубистов («…что-то злое исходит из этих произведений» [171]). А поскольку в представлении Малевича судьбы мирового искусства решались в соответствии с теософскими космогоническими представлениями (их отражение есть и в либретто оперы «Победа над солнцем», написанном Кручёных не без консультаций с художником), то там, очевидно, «победа» нового солнца (Малевич представляет его в виде черного диска) над старым пока еще «частична».
Стоит обратить внимание на сочетание «серьезности» и «игрового» момента, столь важного для авангарда не только потому, что с прошлым расстаются шутя. Игровая стихия присуща искусству ХХ века. Схожие с «Англичанином» атрибуты использованы и в рисунке для «маскарада» (Кёльн, Музей Людвига), представляющего стоящую фигуру в цилиндре. Такие фигуры в маскарадных костюмах являются прямым продолжением тех образов, которые художник создавал для «Победы над солнцем» (например костюм «похоронщика»). Связь их с портретами и фигурными композициями 1913–1914 годов несомненна. Это тем более существенно, то и у самих образов имеются реальные прототипы (Д. Бурлюк, В. Каменский, В. Маяковский, сам К. Малевич).
Тем самым картины Малевича, подобные «Англичанину», оказываются связанными с более широким кругом типажей раннего русского авангарда. Игровое начало, нередко смешанное с театральным, также игровым, давало интересные результаты. При постановке «Трагедии» Владимира Маяковского актеры держали перед собой щиты с нарисованными на них изображениями – своего рода говорящие картины [172], на которых можно было узнать М. Матюшина, А. Кручёных, Д. Бурлюка, В. Хлебникова. У Ольги Розановой в 1913–1914 годах появляется серия «Игральных карт», в которых также угадываются портреты поэтов и художников [173]. Известно, сколь внимательно Малевич присматривался к творчеству художницы, чем она бывала не всегда довольна.
В явной стилистической и иконографической близости к «Англичанину» создавался «Авиатор» (1914, ГРМ), представляющий персонажа с трефовым тузом в руке (что опять-таки возвращает нас к теме карт в культуре раннего русского авангарда [174]). И хотя замазанная авторская запись на обороте холста гласит «(не символизм) карта рыба означает только себя», ей все равно не веришь, поскольку эта поздняя попытка изменить понимание замысла. Герой картины также представлен в цилиндре, следуя, видимо футуристическому дендизму (вспомним Маяковского в цилиндре, желтой кофте и черном плаще, Давида Бурлюка в цилиндре и с моноклем в глазу).
Карандашный эскиз «Авиатора» (Амстердам, Фонд Харджиева-Чаги) обнаруживает еще большее родство с «Англичанином», так как в композиции помещено слово «скачки» (в «Англичанине», напомним, значилось «скаковое общество»). Изображение рыбы закрывает саму фигуру (как бы стоящую за ней в рост), что снова напоминает об «Англичанине». Рядом представлена пила, восходящая к теме строителей, начатой в «Портрете Клюна». То есть здесь снова показан «посвященный», и усложненность композиции типа ребуса возрастает. Отметим, что ребусы, сочетающие слова и изображение, составляющие «загадку», стали популярны в Европе на рубеже веков. Ими, например, интересовался Поль Сезанн, придумавший однажды собственную композицию ребуса. Ребусами увлекались и в России.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу