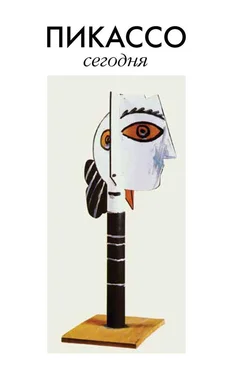Чулков Г. Демоны и современность (Мысля о французской живописи) // Аполлон. 1914. № 1–2. С. 71–75; Бердяев Н. Пикассо // София. 1914. № 3. С. 57–62; Булгаков С. Труп красоты (По поводу картин Пикассо) // Русская мысль. 1915. № 8. С. 90– 106, 2-я паг.
С другой стороны, такое «устранение» репродукций Пикассо из статьи Тугендхольда как будто непреднамеренно, но наглядно модифицировало образ французского искусства в русле «аполлоновской» политики: оно представало более уравновешенным и гармоничным. Выбор картин для воспроизведения и размер иллюстраций также отражали идейные предпочтения редакции, что было отмечено недружественным критиком: «…совсем не случаен выбор картин П. Пикассо в галерее Щукина С. Маковским для “Аполлона”. Главным образом сделаны снимки с тех картин художника, где больше психологизма или, как выражается Тугендхольд, “панпсихизма”. Помещены снимки большие, солидные с картин незначительных, случайных в коллекции…» Грищенко А. Немцы в русской живописи. IX // Новь. 1914. 22 декабря. № 153. С. 5.
Чулков продолжал: «В частности, в области живописи, большинство русских художников рабски следуют за Сезанном» (Указ. соч. С. 75).
Там же. С. 71.
Бердяев Н. Пикассо. С. 57.
Там же. С. 61.
Там же.
Там же. С. 62.
Булгаков С. Труп красоты. С. 106, 2-я паг.
Подоксик А . Указ. соч. С. 127.
Там же. С. 130.
Misler N. Op. cit. P. 165.
Бенуа А. Еще о новых путях живописи // Речь. 1912. 29 декабря (1913. 11 января н. ст.). С. 4.
Бенуа А. Московские впечатления. II // Речь. 1911. 4 (17) февраля. С. 2.
Бенуа А. Еще о новых путях живописи. С. 4. Далее цитаты из статьи Бенуа приводятся без специальных оговорок по этому источнику.
Бердяев Н. Пикассо. С. 57; Булгаков С. Труп красоты. С. 91, 2-я паг.
Тугендхольд Я. Французское собрание… С. 6, 30.
Булгаков С. Труп красоты. С. 105, 2-я паг.
«Африканские», или «мавританские» корни Пикассо – заметный мотив критики этого времени. Ср.: Булгаков С. Труп красоты. С. 92, 2-я паг.; Балльер А. О хромотерапии, уже использованной // Союз молодежи. 1913. Март. № 3. С. 24.
Булгаков С. Труп красоты. С. 106, 2-я паг.
Ср., напр.: «…это есть все же искусство, и большое искус ство при болезненности своей, при всей своей растленно сти. Получается ужасающий парадокс: гнусное искусство , уродливая красота, бездарная талантливость». Булгаков С. Указ. соч. С. 99, 2-я паг.
Преображенский Н. В галерее С. И. Щукина в Москве // Меценаты и коллекционеры. Альманах. М., 1994. С. 49. Ср. слова персонажа повести Б. Зайцева, в котором без труда опознается Щукин: «…мне после битого стекла [с которым сравнивается Пикассо. – И. Д. ] все мармеладом остальное кажется». Зайцев Б. Голубая звезда. Цит. по: Зайцев Б. Земная печаль. Из шести книг. Л., 1990. С. 334.
Булгаков С. Труп красоты. С. 105, 2-я паг.
Там же.
Через несколько месяцев Бенуа возвратился к вопросу о духовном смысле поисков нового искусства, взаимодействующего с архаическими традициями. В статьях о «Выставке древнерусского искусства», устроенной в 1913 году к 300-летию дома Романовых, он провел прямые аналогии между художественным языком русского Средневековья и находящейся под влиянием французских новаторов современной живописи. Но, предсказывая воздействие иконописи на творчество русских авангардистов, критик предупреждал: «Внешне можно скопировать все их [иконописцев. – И. Д. ] приемы… Но чтобы искусство наших дней сделалось таким же по существу, как их искусство, – для этого нужна душевная метаморфоза и не только отдельных личностей, но всего художественного творчества в целом». Бенуа А. Иконы и новое искусство // Речь. 1913. 5 (18) апреля. С. 2.
Остается открытым вопрос: насколько «демоническая» интерпретация могла быть подсказана не только выбором, но и оценками собирателя? Похоже, что А. Подоксик видит именно в них исток русской традиции истолкования Пикассо: «В таком отборе произведений [без «герметичного» аналитического кубизма 1910–1911 годов. – И. Д. ] заключалась особенность щукинского представления о Пикассо – художнике-испанце, суровом аскете и духовидце, несущим в себе вместе с тем нечто демоническое. Эту свою концепцию Щукин, любивший изъяснять мысль контрастами, выразил в лаконичном афоризме: “Матиссу расписывать дворцы, Пикассо – соборы”» ( Подоксик А. Указ. соч. С. 121). Афоризм этот почерпнут из книги И. Аксёнова (с. 35) и сам по себе не указывает на «демонизм» мастера. Дополнительным аргументом в пользу щукинского «вклада» в демонизацию Пикассо может служить свидетельство Б. Терновца, наверняка известное Подоксику: «Сергей Иванович любил изъяснять мысль контрастами: Сезанн и Матисс, Матисс и Пикассо; Матисс – радостный, мажорный, приемлющий жизнь, и Пикассо – болезненно-скрытный, несущий какое-то злое, демоническое начало ‹…›.» ( Терновец Б. Н. Из статьи «Париж – Москва» [1921–1922] // Терновец Б. Н. Письма. Дневники. Статьи. М. 1977. С. 121.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу