Не будем говорить о Лебедеве, Тырсе и прочих отцах-основателях. Поговорим о ситуации 1970-х, когда молодой Пахомов начал утверждаться в ленинградской графике. Сейчас мало уже кто помнит, какова она была. К этому времени ленинградский рисуночный стиль откристаллизовался. Это очень точное определение, ибо подразумевает некую законченность и в то же время структурность. Явно ощущалась трехмерность, даже когда художники работали линеарно. Объем «держали в уме», это страховало от родового порока стилизации, который был заложен в генезисе ленинградского рисования. Я думаю, эту опасность первым почувствовал еще В. В. Лебедев – она присутствовала даже в его изысканных рисунках сажей и плотницким карандашом. Он нашел способ противостоять этому – «средовой, импрессионистической штриховкой», а в детских литографированных книжках другим повторяющимся приемом: плоскость всегда протыкается деталью или незаполненным подразумевающимся пространственным планом. Пространство зовет! Стилизации побаивался и К. С. Петров-Водкин: он знал за собой слабость идеализированного неоакадемизма. Он – в зрелом своем рисовании – бежал от этого искуса посредством повышенного внимания к объему. Это достигалось рисованием штриховыми массами – пространственными планами и приемами навигации «внутри» произведения. Но главное: Петров-Водкин положил начало интереснейшей установке, так сказать, двойного действия. Типология детских образов в его творчестве со второй половины 1920-х имеет два измерения: мироощущенческое и пластическое. Эту установку подхватили и развили «петрово-водкинцы» (в широком смысле – не обязательно его штатные ученики, но и художники, испытывающие его влияние). Лобастые, крепко сбитые, граненые, как малые штофы мальцевского стекла, фигуры детей сближены у А. Самохвалова («Голова мальчика», 1925–1926; «Семья рыбака», 1926), А. Пахомова («Стрелки из лука», 1935; «Крестьянский мальчик», 1929), Л. Чупятова («Голова с пейзажем», 1919) единой трактовкой (формовкой) объема. К ним в целом и в особенности к трактовке голов применимы слова Петрова-Водкина о «силе, прессующей предмет в его гранях впадин и выпуклостей». Но в этой формовке присутствует и сила, противостоящая давлению извне. То есть давлению среды. Отсюда – ощущение самостоятельности, штучности, отдельности этих типологичных образов. Формообразование явно приобретает здесь образно-содержательный контекст.
А. Ф. Пахомов дольше других, уже отойдя от живописи, продолжал развивать эту линию рифмовки детского типа и типа формообразования. (Она была подхвачена несколькими поколениями ленинградских графиков, в том числе тех, кто воспринял пахомовское через руки его учеников: покажи мне, как ты рисуешь ребенка, и я определю степень твоей самостоятельности. Не будем говорить об эксплуатации приема. Будем добрее и назовем это ритуалом. Итак, это ритуал питерской графической субкультуры: балерин рисуют по-лебедевски, детей – по-пахомовски.) Я думаю, в 1960-е Алексей Федорович – центральная фигура в деле уже упомянутой кристаллизации стиля: он рисовал композиционно и законченно, даже если вещь оставляла ощущение наброска. Его поздние рисунки и литографии, помимо прочего, являли какую-то «новую вещественность», хотя специально объемы не отрабатывались (естественно, не было речи и об иллюзорности). Но некая весомость стояла даже за силуэтом, за штриховкой: рисунок, ложась на ладонь, как бы оттягивал ее – новая вещественность! Т. Шишмарева, В. Власов, Б. Ермолаев и несколько других высококультурных мастеров старшего поколения внесли свою лепту в кристаллизацию рисуночного стиля. Они стремились к большему обобщению, к формульности, артикулировали линеарность, но в основных параметрах своего рисования – основательность, законченность, весомость, гомогенность как некая экспликация в каждом рисунке рисуночного стиля в целом – были солидарны с Пахомовым. «Поколению детей» (в лице хотя бы Б. Власова) важно было модернизировать этот рисуночный стиль (в прямом смысле – приобщить к модернизму, на тогдашнем языке описания – сделать «левее»). Думаю, А. Пахомов, начав профессиональную карьеру, не осознавал трудностей работы на уже «застолбленном» пространстве. Он и не мыслил порывать со «стилем». Какое-то время он тоже думал направить его «чуть левее» – к опыту позднего Пикассо и Матисса. Так, в литографиях «Рыба» и «Сова» ощутимо увлечение линогравюрой Пикассо, в то время достаточно распространенное. И в иллюстрации, и в рисунках, оригинальных и литографированных, он продолжал детскую и подростковую тему. Нужно было дать некую отбивку от отцовского визуального архива. И постепенно он находит свою версию стиля. Пахомов заходит на территории, которые были под негласным запретом художников поколения 1920-х годов, в частности – мирискусническую. Это поколение, как уже говорилось, всячески остерегалось стилизации, а наследие родоначальников питерского графизма было, что уж тут говорить, настоено, как водка на кореньях, на стилизме и стилизации. Пахомов шагнул за флажки: в его пастели «Erregung» оживает сомовская интимность. В ню 1990-х он использует силуэтность. Конечно, она «мотивирована» освещенностью, но она – мирискуснической природы. По отношению к этим рисункам и литографиям я бы употребил термин процессуальность: разыгрывается – чисто изобразительными средствами – определенный сюжет. В «Стоящей» фигура девушки – вид сбоку – «поделена» черной заливкой по силуэту. Одна часть фигуры вполне телесна, но девушка как бы вступает в ночную зону, одновременно – зону условности. Черный ложится по силуэту фигуры и лица, причем грудь остается островком белого. Возникают неизбежные символические коннотации – яблоко греха? При этом силуэт, по определению, средство условное, с неожиданной вуайеристской назойливостью фиксирует телесные детали. Словом, никакой окончательности, процессуальность. В 1990-е Пахомов много работает над литографией как медией, стремясь предельно использовать ее выразительные ресурсы. В натюрмортах он обыгрывает саму опосредованность печатного процесса: реален, фактурен, тактилен отпечаток, а его предметный прообраз, первичный, данный в непосредственности ощущений, миражен, ускользающ. Отсюда – привкус метафизичности. В цикле, который я бы условно назвал «ню с тенями (силуэтами)» заливки (с их то сплошной, кроящей, то зернистой фактурой черного или сепии) создают эффект загадочности: логика объемов нарушена, но возникает какая-то новая цельность. В работах с манекенами Пахомов осознанно добивается ощущения искусственности: сам статус модели, ее механическая поза, патетичные, маньеристские складки драпировок при общей ломкости формы, специально созданные «пульфонные» фактуры – все принадлежит какому-то умозрительному бытию. Тема застывшей птицы – символический жест – вполне органична: так маркируется инобытие, иное состояние сознания. Да, Пахомов в 1990-е не скрывает неудовлетворенности «наличной реальностью». Его все более привлекают сюрреалистический и символический аспекты визуального («Кукла на велосипеде», «Im Flug», «Ein Jahr danach»). При этом его лучшие ню и любовные сцены припорошены легким слоем скурильности: мирискуснический термин, имеющий двойственную, лукаво ускользающую основу (scurrile – непристойность, непристойная шутка и scurra – шут).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


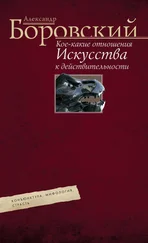
![Мэри Габриэль - Женщины Девятой улицы. Том 1 [Ли Краснер, Элен де Кунинг, Грейс Хартиган, Джоан Митчелл и Хелен Франкенталер - пять художниц и движение, изменившее современное искусство]](/books/397801/meri-gabriel-zhenchiny-devyatoj-ulicy-tom-1-li-kra-thumb.webp)








