И эта картотека типажей, репрезентирующих советское, сохранилась надолго: «Н. Данько стремилась в своих работах правдиво отразить советскую действительность, показать строителей нового социалистического общества. Особенно запоминается группа „Активисты“, передающая облик передовой молодежи своего времени» [86]. Мы как-то не задумывались, что это странно. Метод соцреализма в момент создания большинства ее вещей советско-репрезентативного плана еще и не думал нависать над искусством. М. Горькому не приходило в голову ни то, что его формулировки будут общеобязательны, ни сама сущность собственных унылых пассажей: «…изобразить <���…> значит, извлечь из суммы реально данного смысл и воплотить в образ» [87]. И вообще, сама проектность метода соцреализма предполагала некоторую временную цезуру между «действительным бытием и его художественным образом». У Данько никакой цезуры не было. Увидено – воплощено. Так по крайней мере казалось в силу того, что репрезентация советского было намертво приклеена к скульптурам Данько. На самом деле у художника действительно был удивительный дар типического. Гончаров считал, что типизация требует наблюдения уже установившихся жизненных форм. Достоевский искал характеров незавершенных, пластичных. Визуальная машина Данько перемалывало все – и процессуальность, и данность, и завершенность. Правда, художник не всегда попадала в десятку. Так, пластической зарисовкой остается скульптура «Крестьянка с рыбой и газетой». Сценка, милая и не дотягивающая ввиду полной непроявленности не то что до социальных связей, но даже до поведенческого рисунка, даже до жанровости. Хрестоматийность некоторых произведений объясняет и их реальную непрочитанность (а может, и нечитаемость). Взять хотя бы образы революционных матросов. Уже в Октябре происходит становление двух взаимонепримиримых мифологий. Для одной красные матросы – движущая сила революции и Гражданской войны (а затем – и коллективизации). Свою лепту в эту мифологию внесли самые разные советские художники и писатели, и не только одиозного типа. У истоков второй – И. Бунин «Окаянных дней»: матросня, жестокость, пьянство, кокаин. Д. Лихачев через много десятилетий вторил Бунину. (Есть, впрочем, и третья, более мягкая мифологическая версия. С ней выступил В. Набоков, обратившийся к матросу как излюбленному типу, фигурирующему в советской литературе: «…женолюбив, как всякий хороший, здоровый парень, но иногда из-за этого попадает в сети буржуазной или партизанской Сирены и на время сбивается с линии классового добра. На эту линию, впрочем, он неизбежно возвращается»). Думаю, щекотихинская «Прогулка матроса» – у истоков этой линии. А матросы Данько, уже современников раздражавшие своим щегольством и изнеженностью? Со временем на эти странности визуальных характеристик перестали обращать внимание, и они были безоговорочно закреплены за мифологией первого порядка. Можно ли прочесть эти образы заново? Или Данько просто закрепила характерный единичный облик и без особой рефлексии «назначила» его типажным, отвечающим за «Красный флот»?
Есть еще один интересный момент, связанный с самой типизирующей позицией художника, как бы санкционированной советской властью. Г. Поспелов пишет, на материале искусства позапрошлого века, об «отторжении типического начала в каждой отдельной личности». Исследователь формулирует это как «потребность сбросить омертвляющую связанность человека с любой житейщиной» [88]. По аналогии – испытывала ли Данько потребность сбросить омертвляющую связь «с любой социальщиной», – речь-то идет о 1920–1930-х годах?
Уверен – не только испытывала, но и сбрасывала, хотя бы в «Портрете А. Ахматовой» и в портретах актеров в ролях. Особая страница творчества Данько – так называемые отрицательные типажи. Как-то получилось, что и в этом направлении типажи художницы стали как бы конвенционально признанными – как припечатала Данько, так и будет. Здесь тоже есть свои аберрации зрения. Данько никогда не была революционным фанатиком, что попадались и в ее вполне интеллигентной и просвещенной среде. Деление на социально близких и классово враждебных наверняка коснулось и ее круга жизни. Так что представление о Данько как о своего рода прокуроре в фарфоре неверны и обусловлены той тяжелой атмосферой взаимоистребления, которая установилась в стране со второй половины 1930-х. Как мне представляется, для Данько была важна традиция создания образов сатирического и шаржевого плана, идущая от частных фарфоровых заводов, прежде всего гарднеровского. На это налагался особый характер культуры начала 1920-х – смеховой, пронизанный иронией, даже в контексте творчества отдельного писателя и художника сочетающий пафос и снижающую интонацию. Высмеивали и своих, и чужих, своих подчас больнее, бывших и нынешних, совслужащих и нэпманов, кокоток и стриженых комиссарш, зарвавшихся пролетариев и прагматичных спецов. Конечно, в этой культуре присутствовала доля классовой и идеологическая нетерпимости. К середине 1930-х эта доля разрослась, как раковая опухоль. Но до этого было далеко. Первые опыты социальной критики носили, как это ни странно, амбивалентный характер. Возьмем, к примеру, замечательную «Буржуазку-торговку» А. Митрохиной-Брускетти из собрания Петра Авена: трудно искать здесь социальную вражду. Скорее сочувствие. Скульптура вылеплена, отлита и расписана, как драгоценность. Как драгоценная вещица, которую история готова смахнуть со стола, воспринимается и сама буржуазка. В «Трусихе» чуть больше социальной критики, но не настолько, чтобы «иллюстрировать», как это сделал коллега, этим типажом блоковское: «И старый мир, как пес безродный, / Стоит за ним, поджавши хвост». Скорее ближе «Багаж» С. Маршака, написанный за год до создания скульптуры.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


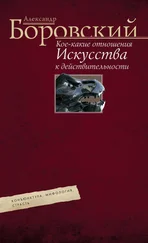
![Мэри Габриэль - Женщины Девятой улицы. Том 1 [Ли Краснер, Элен де Кунинг, Грейс Хартиган, Джоан Митчелл и Хелен Франкенталер - пять художниц и движение, изменившее современное искусство]](/books/397801/meri-gabriel-zhenchiny-devyatoj-ulicy-tom-1-li-kra-thumb.webp)








