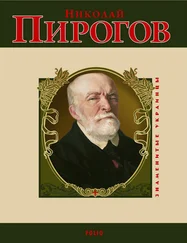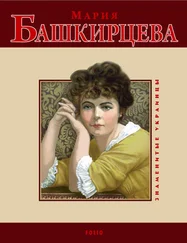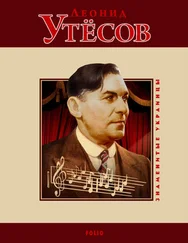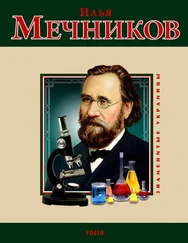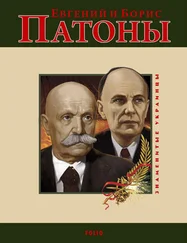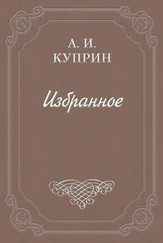А вот письмо из Парижа от 26 января 1874 года: «Не знаю других сфер, но живопись у теперешних французов так пуста, так глупа, что сказать нельзя. Собственно, сама живопись талантлива, но одна живопись, содержания никакого… Для этих художников жизни не существует, она их не трогает. Идеи их дальше картинной лавочки не поднимаются».
Акaдeмия xyдoжecтв пocлaлa Репина за рубеж для «осознания красоты европейской живoпиcи, европейской природы», но в любой стране он видел, «как тяжeлo лeжит paбoтa нa кaждoй coгнyтoй cпинe». «В самом деле, – писал он Крамскому, – мы eдeм cюдa иcкaть идeaльнoгo пopядкa жизни, cвoбoды, гpaждaнcтвa, и вдpyг – в Beнe, нaпpимep, oдин тщeдyшный чeлoвeк вeзeт нa тaчкe пyдoв тpидцaть бaгaжy, вeзeт чepeз вecь гopoд (знaeтe вeнcкиe кoнцы!), oн yжe cнял cюpтyк, xoтя дoвoльнo xoлoднo, pyки eгo дpoжaт, и вcя pyбaшкa мoкpa, вoлocы мoкpы, oн и шaпкy cнял… лoшaди дopoги». Cлoвoм, Peпин вcюдy нaxoдил бypлaкoв – и в Poccии, и в Итaлии, и в Aвcтpии. Он ощущал тяжесть чyжoй paбoты так, бyдтo этa paбoтa лeжит нa его плeчax, бyдтo oн caм, зaмeняя лoшaдь, вeзeт в тaчкe чepeз вcю Beнy тpидцaтипyдoвыe гpyзы. Это пoвышeннaя зopкocть, умение чувствовать тяжесть чyжoгo бpeмeни, чyжoгo тpyдa cдeлaлa Репина пoдлинным художником. Однако он сам инoгдa нe зaмeчaл в ceбe этoгo кaчecтвa и cчитaл, что всецело находится вo влacти эcтeтизмa.
В 1876 году Илья Ефимович раньше срока вернулся в Россию и поселился в Чугуеве, а через год семья переехала в Москву.
По пути из Парижа Репины на короткое время остановились в Петербурге, где появилась очаровательная картина «На дерновой скамье», вся пронизанная светом, ощущением покоя и счастья. На ней изображена жена художника В. А. Репина с дочерьми, ее родители и брат с супругой. «На дерновой скамье» – это групповой портрет в пейзаже, о котором художник И. Э. Грабарь написал, что эта блестящая по мастерству, свежая и сочная картина принадлежит к лучшим пейзажным мотивам, когда-либо написанным Репиным.
Пленэрная живопись, свободная, преисполненная своеобразного изящества, свидетельствовала о профессиональном мастерстве молодого художника, а по настроению, полному тихой радости и спокойствия, картина отражала душевное состояние Репина, лишь недавно оказавшегося на родине после нескольких лет разлуки.
Но художник стремился в родные места – в Чугуев. Из блестящего Парижа, столичного Петербурга – в далекую глухую провинцию… Именно она была так желанна и так необходима Репину.
Илья Ефимович с удовольствием окунулся в самую гущу народной жизни. «Свадьбы, волостные собрания, ярмарки, базары – все это теперь оживленно, интересно и полно жизни», – писал он Стасову.
Обилие образов, сюжетов, новых тем буквально захлестнуло художника. Он работал много и очень плодотворно. Именно здесь, в Чугуеве, окончательно сложилось то направление в творчестве Репина, которое было намечено в «Бурлаках» и давало основание считать его художником истинно национальным и глубоко народным. О великой народности Репина говорят его портреты мужиков: «Мужичок из робких», «Мужик с дурным глазом». Таких образов в русской живописи еще не было.
На картине «Мужичок из робких» изображен человек сложного характера и непростой судьбы – загадочная крестьянская душа. Авторское отношение в картине как будто отсутствует, автор ничего не навязывает зрителю, он словно говорит: «Вот интересный человек, я сам еще не ведаю его тайн, давайте вместе попытаемся разгадать их». Эта картина – один из шедевров Репина, яркий пример русского психологического портрета. За внешним обличием бедного крестьянина, запуганного, сгорбившегося под ударами судьбы, скрывается сильный, порой непредсказуемый характер человека, способного на протест. Не случайно критик В. В. Стасов дал другое название этому портрету – «Мужичок разбойничек».
На картине «Мужик с дурным глазом» тоже предстает незаурядная личность. Репин интуитивно чувствовал и понимал мир простого крестьянина, простого мужика. Недаром позже Лев Толстой скажет, что Репин «лучше всех русских художников изображает народную жизнь».
В Чугуеве Илья Ефимович написал еще один замечательный портрет – «Протодиакон». Художник так охарактеризовал свой живописный персонаж: «А тип преинтересный! Это экстракт наших дьяконов, этих львов духовенства, у которых ни на одну йоту не попадается ничего духовного – весь он плоть и кровь, лупоглазие, зев и рев бессмысленный, но торжественный и сильный, как сам обряд в большинстве случаев. Мне кажется, у нас дьяконы есть единственный отголосок языческого жреца славянского еще, и это мне всегда виделось в моем любезном дьяконе, как самом типичном, самом страшном из всех дьяконов. Чувственность и артистизм своего дела, больше ничего!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
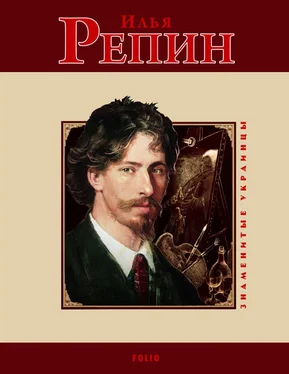

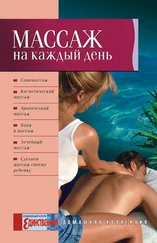
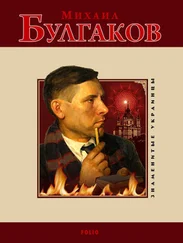


![Илья Репин - Мысли об искусстве [litres]](/books/407372/ilya-repin-mysli-ob-iskusstve-litres-thumb.webp)