Однако конфликт комфутов и Выборгского райкома касался всего лишь степени, а не самой идеи коллективизма. Через два месяца после ответа Выборгского райкома был опубликован декрет о потребительских коммунах. Власти поддержали дома-коммуны, субсидировали (хотя и не слишком щедро) строительство студенческих общежитий, фабрик-кухонь на всем протяжении 20-х годов, и насильственная коллективизация крестьянства в 1929 – 30-м годах – по существу, последнее звено в этой цепи, хотя одновременно и первое звено в другой цепи.
Художники, и среди них архитекторы, тоже продолжали отстаивать свои коллективистские взгляды на протяжении всех 20-х годов, а в 1929 – 30-м годах, параллельно с начавшейся коллективизацией сельского хозяйства, архитектурная идея коллективного существования дала новый всплеск – в проектах домов-коммун Стройкома (обратим внимание на коллективное авторство этих проектов), в коллективных спальнях В. Кузьмина, в «Сонной сонате» К. Мельникова и других проектных предложениях.
Коллективное существование, подразумеваемое всеми осуществленными и неосуществленными домами-коммунами 20-х годов, построено на принципах равенства членов этого коллектива, поэтому авторы всех этих предложений крайне негативно относились к тому коллективу, где роли распределены неравным образом, то есть к семье.
«Пролетариат, – писал автор одного из самых экстремистских проектов тех лет, – должен немедленно приступить к уничтожению семьи как органа угнетения и эксплуатации» (Кузьмин, 1928, с. 82). Этот текст поместили в своем журнале Веснин и Гинзбург, как бы санкционировав его тем самым, а через два года снова предоставили Кузьмину страницы журнала. На этот раз Кузьмин писал так: «Человек постоянно работает (даже когда он спит)… Взрослые коммунары спят: группами по шесть человек (отдельно мужчины и женщины), по двое (прежние “муж” и “жена”)» (Кузьмин, 1930, с. 14 – 15). Нельзя не обратить внимания на сходство этих идей со сном Угрюм-Бурчеева из «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина (1870): «В каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых, размножаться» (Салтыков-Щедрин, с. 190). А если бы мы захотели отыскать истоки кузьминских идей, то нам, может быть, следовало бы обратиться к 1770 г. (это тоже фаза растекания), когда в Россию, в Черниговскую губернию, переселилась одна из общин гуттерских братьев. Там тоже спали отдельно мужчины и женщины. Иногда, как и у Кузьмина, пары удалялись в отдельные комнаты, которые были «без печей и сделаны только для спанья или временного женатых пребывания» (Клибанов, с. 274). У гуттерских братьев «матерям и отцам не воспрещается в свободное время приходить к детям или брать их в свои комнаты» (там же). Кузьмин приходит к тем же формулировкам: «Родители могут видеть своих детей… В известное время они приходят к ним, ласкают их, кормят грудью…» (Кузьмин, 1930, с. 16 – уничтожение разницы между мужчинами и женщинами в культуре 1 достигает, как видим, такой степени, что кормить детей грудью там могут и отец и мать). Я склонен думать, однако, что Кузьмин ничего не знал о гуттерских братьях и их идейных предшественниках, он, скорее всего, мысленно обращался к Марксу и Энгельсу.
Тот факт, что А. Веснин и М. Гинзбург поместили такой текст в своем журнале, не должен удивлять – Кузьмин всего лишь довел до некоторого логического предела одну из интенций культуры 1, направленную на разрушение семьи и замену ее коллективом. Ту же интенцию мы могли бы увидеть и в высказываниях М. Охитовича: «Если не будет домашнего производства, что будет объединять меня в одной квартире с другими лицами? Семейные узы? Но семейные заботы берет на себя машинная техника» (Охитович, 1929, с. 134). Эти же идеи можно видеть и во многих других проектах 20-х годов (Гинзбург, Николаев, Барш, Владимиров и др.).
Новая архитектура разрушительна по отношению к традиционной семье, и в этом она вполне созвучна устремлениям государственной власти, которые тоже направлены на редукцию семьи до уровня сожития, говоря словами Салтыкова-Щедрина, «двух экземпляров полезных животных мужского и женского пола», причем это сожительство рассматривается всего лишь как временное отклонение от коллективного существования. В 1924 г. один журнал давал читателям такие официальные разъяснения: «Если гражданин и гражданка живут как муж и жена и сами это признают, то считается, что они состоят в браке. Поэтому вселение их в одну комнату не нарушает постановление Московского совета от 28/VII с. г. и является вполне законным» (СМ, 1924, 4, с. 48). Постановление Московского совета, в сущности, приходит к тому пониманию брака, которое существовало у некоторых русских сектантов, в частности, у духоборцев. Вот свидетельство 1805 г.: «Брак у них не почитается таинством и совершается по одному взаимному согласию молодой четы… Церемоний и обрядов при том также не бывает никаких, довольно для сего согласия молодых супругов…» (Клибанов, с. 272). Наличие подобных интенций в истории русской культуры (хотя мы и не рассматриваем их подробно) избавляет нас от необходимости обращаться к истокам европейской антисемейной традиции – к Ликургу, Платону или Марксу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



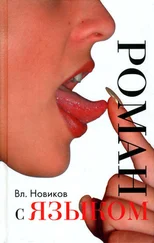




![Владимир Паперный - Архив Шульца [litres]](/books/433162/vladimir-papernyj-arhiv-shulca-litres-thumb.webp)


