Вообще по своему выдающемуся дарованию и по своим чисто нравственным качествам И. К. Айвазовский являлся одним из тех художников, знакомство с которыми для всех встречающихся с ним доставляло истинное наслаждение.
Бодрый, веселый и разговорчивый старик, маститый художник, прожив с честью столь долгий век, трудясь до седин и никому не сделав ничего, кроме добра и света, привносил всегда в светское общество оживление.
В последний свой приезд в Петербург, И. К. Айвазовский откровенно высказался. Взгляды маститого учителя молодых и товарища старых художников, высказанные им нам, так важны и значительны по своей содержательности, что мы приводим их полностью.
Как художник старых традиций, И. К. не мог примириться с новыми веяниями, внесенными в художественную среду, не мог спокойно глядеть на то, что, по его мнению, унижает искусство, которому он посвятил всю свою жизнь. В первые же дни приезда в Петербург И. К. побывал на всех весенних выставках в день нашего посещения, только что вернулся к обеду с академической выставки, где находилась и его картина «Прибой волн», посланная вскоре отсюда в Париж, на Всемирную выставку 1900 г.
– Странное впечатление вынес я с этой выставки, – говорил он. – Там нет ни одного члена академии, кроме меня, – все молодежь, еще никому не известная, еще не успевшая составить себе имени. Разве такой должна быть выставка в Академии художеств? Конечно, нет: на ней должны фигурировать все члены академии, в ней должны принимать участие все профессора, близко стоявшие к этому учреждению, которое всегда останется единственным в России, несмотря на происходящие в стенах его неурядицы. Я видел в ней много беспорядков, но тем не менее она, все-таки, продолжает давать серьезное художественное образование всем, кто пожелает его получить. Шестьдесят лет сохранял я свою связь с академией, посылая картины на академические выставки с 1840 года, и теперь мне больно видеть оказываемое ей пренебрежение. Да, это пренебрежение. Тщетно я искал в выставочном каталоге фамилии Репина и Владимира Маковского – их не было. А между тем, разве они не должны, не обязаны фигурировать на выставке учреждения, профессорами которого состоят? Конечно обязаны, и, если бы в этом была моя власть, я поставил бы непременным условием приема профессоров в академию – участие на выставках. Я осведомился, почему не вижу картин Репина и Маковского, и мне ответили, что оба они «передвижники». Устав «передвижников» не допускает участия их в других выставках!.. Я это знаю, но вместе с тем никак не могу понять, зачем господа, не признающие академии, все-таки пошли туда? Пока они, конечно, не сделали ей вреда, но со временем, переводя в академию понемногу своих товарищей, «передвижники» могут совершенно обезличить ее.
Я вообще против кружков, на которые делятся и раздробляются наши петербургские художники. Что это? Ведь такие кружки не приносят искусству ничего, кроме вреда; я думаю об этом уже давно и давно собирался объединить всех художников. И вот каким образом.
Я проектировал постройку в Александровском саду, как раз против Невского проспекта, здания вроде венского Kunstlerhaus, в котором все художники выставляли бы свои картины. В то время городским головой был В. И. Лихачев. Я говорил с ним об этом проекте и объяснил ему, что это здание должно быть редким образцом изящества и вкуса: всю лепную работу должны сделать сами художники, всю живопись на стенах и потолках – тоже.
Расход на эту постройку требовался сравнительно небольшой – тысяч сто. В. И. Лихачеву очень понравилась моя идея, и он обещал оказать свое содействие не только в получении места, но и в некоторой денежной сумме, с тем, однако, чтобы здание перешло в полную собственность города лет через двадцать или двадцать пять. Но, к сожалению, из этого проекта ничего не вышло, потому что тогда «передвижники» вздумали, будто я хлопочу для них, а когда узнали, что моя цель – объединение всех художников, то перестали оказывать мне поддержку. Один я, конечно, ничего сделать не мог.
Партийность художников помешала постройке в Петербурге интересного и крайне полезного здания. Теперь в столице нет совершенно хороших залов для художественных выставок. Я не одобряю даже освещения в залах академий: художеств и наук.
Так говорил И. К.
Бесспорно, что Айвазовский умер благороднейшим рыцарем долга на земле до последних дней, в полном развитии своих сил и художественного творчества, далеко не сказав нам своего последнего слова. Его смутный отголосок сказался в последней картине, в которой прощался он с северной публикой, по единодушному отзыву критиков – «гвозде» наших выставок. О ее сюжете я писал в статье о выставке, опираясь на слова самого художника, что он с 1846 г., в котором первообраз картины был написан им для императора Николая I, искал его всю жизнь, пока достиг такого поэтического впечатления и нежных сочетаний яркого воздушного света и красок, проникнутого глубоким настроением, полным грозной, величественной и поэтически красивой передачи момента расходившейся бури на море.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
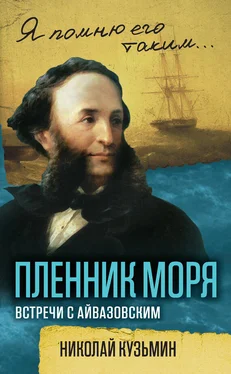
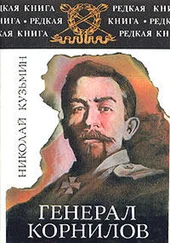
![Николай Кузьмин - Меч и плуг [Повесть о Григории Котовском]](/books/33365/nikolaj-kuzmin-mech-i-plug-povest-o-grigorii-kot-thumb.webp)
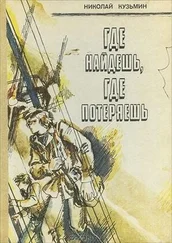
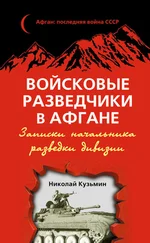
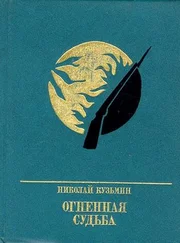


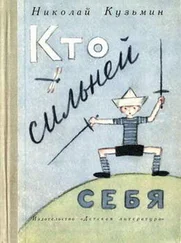
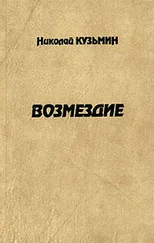


![Николай Кузьмин - Короткий миг удачи [Повести, рассказы]](/books/400221/nikolaj-kuzmin-korotkij-mig-udachi-povesti-rassk-thumb.webp)