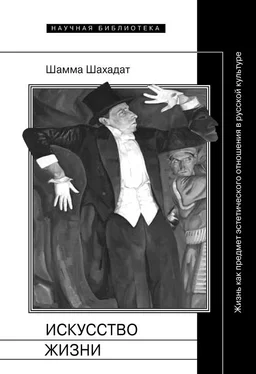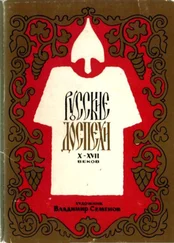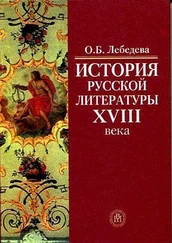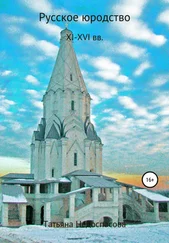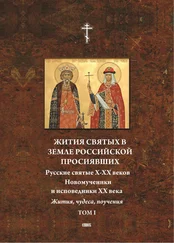Ранний вариант теории самообретения представляет Кьеркегор, который в «Или – или» пишет: «Я не созидаю себя, я себя выбираю» (Кьеркегор, 2011, 773 и далее). Я возникает не ex nihilo , а заключено в его истории. Анализируя истории жизни, Томэ сводит роль Я у Кьеркегора к роли редактора: перед ним находится текст жизни, который он правит, то есть Я занимает по отношению к собственной жизни внешнюю позицию (Thomä, 1998, 47). Аналогичную точку зрения высказывает Аласдер Макинтайр, формулирующий тезис о самообретении Я в следующем предложении: «Истории сначала проживают и только потом их рассказывают» (MacIntyre, 1981, 197) [580]. В послесловии к своей работе («За исключением фикции») он отводит фикции весьма скромное место, ограниченное текстуальностью, тогда как, по его мнению, жизнь сама нуждается в тексте, в наррации. Макинтайр полагает, что Я замкнуто в своей истории, которую человек – и в этом его отличие от животного – может не только пережить, но и рассказать; «в своих поступках и привычках, как и в своих фантазиях, человек есть, по существу, животное, умеющее рассказывать истории» (Там же, 201). Следствием подобного взгляда является телеологическое толкование жизни. Жизнь сама является рассказом, развивающимся в направлении dénouement . Нечто подобное утверждали и теоретики романа – Белинский (1978, 325), а позже Лукач. Примечательно, что тот и другой многим обязаны Гегелю и оба ставят перед романом задачу организации жизни и полагания ее смысла; роман призван вносить в жизнь порядок, а тем самым и смысл. Так, Лукач подчеркивает в романе его компенсаторную функцию: когда жизнь утрачивает смысл, в дело вступает роман с его «идеей тотальности» (Lukács, 1971, 47): «Создавая образы, роман стремится вскрыть и воссоздать тайную тотальность жизни» (Там же, 51). Искания героя представляют собой основной сюжетообразующий фактор и формообразующее свойство романа; его характеризует присутствие героя-искателя (Там же).
Модель самообретения подчеркивает аспект внешней обусловленности, в рамках которой герой пытается проявлять свою активность. Отсюда постоянная угроза поражения в борьбе за формирование своей жизни. Примерами могут служить Дарьяльский, главный герой «Серебряного голубя», и Сашка Жегулев из одноименного романа Леонида Андреева. Герои-искатели, оба они (тот и другой) выстроили план своей жизни и не могут от него отказаться. Самообретение оказывается иллюзией, герои становятся пленниками рассказов, которые они сами для себя и написали: Дарьяльский как автор мифопоэтического рассказа о втором пришествии Христа, Сашка Жегулев как автор биографии разбойника, ничего общего не имеющей с его первоначальными идеалами. Воздействие этих романов чувствуется у Набокова в «Отчаянии», где поиски героем своего подлинного Я , своего двойника, показаны в пародическом переосмыслении, ибо Феликс ничуть не похож на Германа, героя и повествующее Я романа. «Отчаяние» рассказывает историю ошибки Я , ищущего себя в другом, но оказывающегося в конечном счете замкнутым на себе самом, на собственной истории.
В литературе символизма с ее преобладанием теургического и театрализованного отношения к собственной личности большую роль, чем самообретение, играет самоизобретение – изобретение героем самого себя. Оно связано с такими понятиями, как self-making, self-invention, self-fashioning, self-creation, которые все обозначают отказ от аутентичной самости и указывают на повышение в цене инстанции автора как творца истории своей жизни (Там же, 120). В русской традиции этому более или менее соответствуют понятия «сконструированная личность» (Л.Я. Гинзбург) и «поэтика поведения» (Ю.М. Лотман). Претекстами этого театрализованного подхода к жизни служат, с одной стороны, учения, направленные на достижение политической власти – кодекс поведения «князя» у Макиавелли и концепция умного правителя Грасиана, с другой – эстетическая философия жизни Фридриха Ницше.
Способ соединения жизни с рассказом о ней, индивида с текстом был предложен Ричардом Рорти [581], который перемещает рассказ на место данной действительности. В отличие от концепции самообретения, не жизнь творит Я , а, напротив, Я порождает жизнь с помощью рассказа, который это Я само же производит. Рорти соглашается с Томэ в том, что «жить означает непрерывно интерпретировать самого себя и устанавливать связи в процессе постоянной нарративной деятельности» (Thomä, 1998, 113; Rorty, 1998, 121 – 140): «Мы готовы согласиться с тем, что вся человеческая жизнь есть всегда не завершенный, хотя иногда героический труд по созданию новых и восстановлению разорванных сплетений единой сети» (Rorty, 1999, 123). В частности, Рорти ссылается на роман Набокова «Бледный огонь», «сконструированный вокруг представления о человеческой жизни как о комментарии к абсурдному, незавершенному поэтическому тексту» (Там же, 82). Подобно Макинтайру, он так же исходит из убеждения в том, что человек запутан в сетях своей истории, но сильнее подчеркивает значение личности как «олицетворенного вокабуляра» (Rorty, 1999, 138) [582], который активизируется в рассказе. Рассказ, а тем самым и действительность представляет собой, по мысли Рорти, не некую «оформленную единую, присутствующую в настоящем, независимую субстанцию», а «сеть, сплетенную из контингентных отношений, ткань, которая простирается назад, в прошлое, и вперед, в будущее» (Там же, 80 и далее). Человек, этот «воплощенный вокабуляр», пишет свой рассказ все дальше, осваивая контингентные отношения. Однако самоизобретению все же положены границы, поскольку, цитирует Рорти Витгенштейна, «личного языка не существует» (Там же, 81) [583].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу