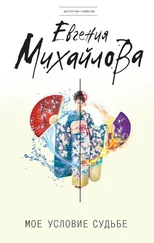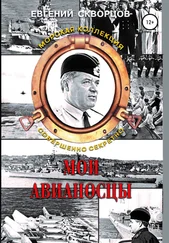И вот у него дома была одна калоша, которую он хранил, словно какой-то важнейший артефакт. Эта калоша была очень качественная, производства еще дореволюционного завода «Треугольник», который потом называли «Красным треугольником». И он всегда всем гостям, знакомым и незнакомым, демонстрировал эту калошу и говорил: вот какое качество было раньше. И кто-то на него настучал. Естественно, было пришито черт-те что: японский шпион, абиссинский шпион, новозеландский шпион, но это неважно, на это никто не обращал внимания, даже сами следователи. Потом меня от него выдернули и повезли в Кресты на сохранение — там сидели уже не нужные для следствия люди и ждали отправки. У нас было плохо с куревом, и от этого мы очень страдали. В первый день я сунул руку в телогрейку — я все еще был в лагерном — и обнаружил, что он запихнул мне в карман целую пачку сигарет «Аврора». В тех обстоятельствах оторвать от себя целую пачку сигарет — это был почти подвиг.
Зачем же меня привозили? Дело в том, что моя мать, естественно, все время писала и хлопотала, притом совершенно напрасно, потому что это абсолютно бессмысленно. Но она-то этого не знала, она вообще была очень правоверной: таков порядок, нужно использовать все что есть, они обратят внимание, они пересмотрят дело, они поймут, они разберутся. Такая доверчивая натура дореволюционного склада. Она платила какие-то деньги адвокату, а он, конечно, ничего не делал. Все эти адвокаты имели по сто наших дел и сами осознавали, что рыпаться бессмысленно. Это были жулики, которые с родственников каждого из этих своих подопечных брали деньги, потому что им, дескать, нужно ехать в Москву, подавать какие-то документы. Но они никуда не ездили и ничего не подавали, это было чистое жульничество.
Пока я сидел на Шпалерке во время пересмотра дела, меня и вызвали-то всего один раз. То ли майор, то ли подполковник, то ли полковник Маляров… Шпалерка — старинная тюрьма, которая расположена со стороны заднего фасада Большого дома, она существует с дореволюционных времен. Во время революции там, где был Большой дом, был губернский суд, его сожгли, а тюрьму, конечно, нет. Забавно, кстати, что тюрьмы почти везде не тронули — знали большевики-засранцы, что понадобятся. Сожгли только одну, так называемый Литовский замок, который был напротив Мариинского театра, остальное оставили. А еще очевидцы рассказывали, что во время войны немцы бомбили все, но не трогали тюрьмы… Но это так, лирическое отступление.
Короче говоря, кабинет полковника Малярова представлял собой маленькую клетушку-комнатушку с зарешеченным окном. Все такого рода кабинетики располагались в той части тюрьмы, что и общие камеры. Маляров и какой-то подполковник, такой тщедушный, сидели и что-то записывали. Мне начали задавать какие-то вопросы по моему делу, я отвечал то, что и так было записано в документах. Причем я уже был практически прожженным лагерником, грамотным, я уже знал, что говорить, как говорить, в какой момент и каким тоном. Судя по всему, я вел себя очень независимо, они не могли меня ни в чем убедить. Причем я сидел, а этот подполковник ходил вокруг. Потом он наклонился к Малярову, они о чем-то пошептались, потом он опять начал ходить. А потом сказал: «Ну что вы говорите! Он же лагерник!» — «Ну, я же велел припугнуть…» И все, больше меня не трогали. Притом что на Шпалерке я тогда провел месяца два.
В этот период меня еще раз выдергивали и совершенно неожиданно возили в Москву. Страна росла и развивалась, и меня везли уже не в теплушке, а в так называемом столыпинском вагоне, пульмановском. В Москве меня пересадили в «воронок»: фургон, в нем дверь, у двери сидит вертухай, а в глубине я, как бы за загородкой. Возможно, потому что все остальное пространство занимали уголовники или, наоборот, только что арестованные, новенькие. Причем, когда меня еще везли в вагоне, я тоже был отделен от остальных. Там были «купе», куда набивали толпы, потом шли «купе» начальника и вохры, потом опять общие «купе», а в самом конце было узенькое помещение, где мог сидеть только один человек, и я ехал там один. А потом меня вдруг сунули в общее «купе», где вперемешку ехали уголовники и 58-я статья. Был там один уголовник, паскуда. Как у Горького в «Челкаше», такой тип — они разные бывали, и воры, и убийцы, а внешне — как Григорий Мелехов из «Тихого Дона», по нему сразу все было видно. Почему-то я его запомнил, почему-то он мне запал в душу. Интересно, что последние пару десятилетий я почти не встречал таких людей — очевидно, определенные типажи вымирают, не давая потомства. А в те времена их было очень много. И вот он подошел ко мне, стал рыться в моих вещах, нашел кусочек сала. Сразу раскромсал его и начал всем раздавать — у них было принято играть в Робин Гуда. Но, насколько я помню, многие не брали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу