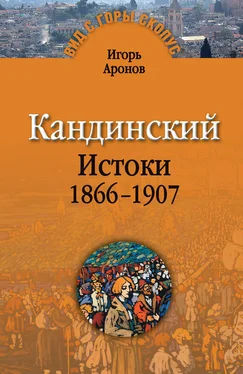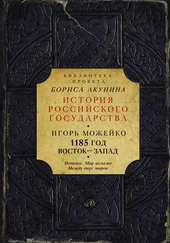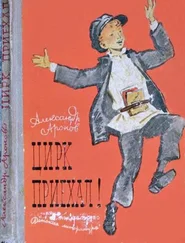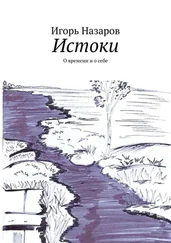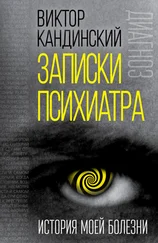О духовном странничестве см.: [Милюков 1994(2, ч. 1): 57–153].
См., например, иллюстрации Г. Доре к «Легенде о вечном жиде» («La Legenda del Judio Errante», Paris, 1862, plate I).
В.В. Кандинский – Г. Мюнтер, 2 нояб. 1904 г., из Одессы в Бонн (ФМА).
П. Вайс утверждает, что образ старика-странника в Пестрой жизни был вдохновлен описанием Бехлингом нищего с огромным мешком. Затем она заявляет, что старик – типичный русский паломник, но его «нереальная зеленая борода» говорит о его связи со «сверхъестественным». Следовательно, он является «старым колдуном»-шаманом. Старик держит посох, который для шаманов некоторых сибирских племен служит для путешествия в другие миры [Weiss 1995: 47, 50–51]. Однако неочевидно, что посох странника является «конем» шамана; отсутствуют и этнографические данные, свидетельствующие о зеленой бороде как о знаке колдуна-шамана. Вайс не объясняет, почему старик Кандинского, если он является шаманом, несет мешок, но не имеет традиционных шаманских атрибутов, таких как бубен и священные амулеты на одежде. Вайс также не объясняет свое предположение о связи русских паломников с колдунами и финскими или сибирскими шаманами.
По мнению Вайс, сцена с лучником и белкой основана на описании Бехлингом «происшествия с пьяным крестьянином, который вообразил, что белка на ели охотилась на щебечущего воробья». С другой стороны, Вайс связывает эту сцену с жертвоприношением лесному духу [Weiss 1995: 49–51], несмотря на отсутствие этнографических данных о таких жертвоприношениях.
Карандашный эскиз Кандинского Церковь на горе (1906–1907; ФМ, 336) варьирует мотивы Пестрой жизни . Спешившийся странник-всадник в длинном кафтане, напоминающем белый кафтан юноши из Пестрой жизни , стоит рядом с конем перед горой, покрытой лесом. На вершине горы – церковь. У подножия горы – костер. Странник одновременно близок к своему «духовному храму» и далек от него.
Б.М. Соколов бегло характеризует отдельных персонажей Пестрой жизни , сосредотачиваясь на «реконструкции» основной идеи картины. По мнению исследователя, Кандинский в соответствии со своим пессимизмом представил «больную» Россию, гротескный образ народа, погруженного в хаос. Художник изобразил «“град обреченный”, который не сохранил своей святыни и не может более войти в кремль на вершине холма». Сам белый город на горе истолкован Соколовым как «кремль с маленькой буквы, как синоним крепости». Затем Соколов связывает Пеструю жизнь с тем, что он называет «покаянным мессианизмом» в русской мысли. Ссылаясь на линию, развиваемую Мережковским, Соколов объясняет смысл «покаянного мессианизма»: русский народ сделается народом-богоносцем через апокалипсическое разрушение и «вольное страдание» [Соколов 1996b: 227–237]. Такое толкование переводит сложный символический образ, созданный художником, а также русскую философскую мысль в однозначный план. Из этого объяснения выпадает «творческое богоискание», характерное для Кандинского, русского народа и русской интеллигенции, включая Мережковского и особенно Бердяева, на которого Соколов не случайно не ссылается. М. Веренскольд утверждает, что русский город в Пестрой жизни , как и во всех работах Кандинского 1901–1917 гг., символизирует теорию «Москва – Третий Рим» в контексте идеи «Третьего Завета» Мережковского [Werenskiold 1998: 98, 100]. По мнению Мережковского, политическим результатом этой теории было подавление церкви любви и свободы государством насилия. Глава государства стал Антихристом. Это породило старообрядческое искание истинной веры, завершившееся революцией 1905–1907 гг. Революция положила конец лживому православию и монархии вместе с идеей «Москва – Третий Рим». Третий Завет начинается со стремления к истинному пришествию Христа, к его вселенской церкви [Мережковский 1914: 37–50, 92–97]. Кандинский, как и Мережковский, был настроен против монархии. Он мечтал о свободной России, а не о воплощении монархической теории «Москва – Третий Рим».
В жизни есть смерть для жизни после смерти (фр.).
В.В. Кандинский – Г. Мюнтер, 10 июля 1907, из Бад Райхенхаля в Бонн (ФМА).
В.М. Васнецов – П.П. Чистякову, 25 апр. 1882 г. (цит. по: [Васнецов 1987: 59]).
«Примитивизм» Кандинского имеет ряд стилистических параллелей с работами Поля Гогена (Paul Gauguin), которые он видел в на выставке в «Салоне» 1906 г.: Желтый Христос (1889; Albright-Knox Art Gallery, Buffalo); Распятие (1889; Belgian Royal Museum of Fine Arts, Brussels). В 1905–1907 гг. Вламинк (Maurice de Vlaminck), Дерен (Andre Derain), Матисс (Henry Matisse) и Пикассо (Pablo Picasso) начали развивать современный «примитивизм» [Flam 1984: 215]. Русское народное искусство является другим источником «примитивизма» Кандинского в Утреннем часе [Богуславская 1968: № 34, 39].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу