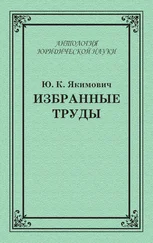Фрэнсис Бэкон. Портрет Папы Иннокентия X . На тему картины Веласкеса. 1953
Центр искусств, Де-Мойн (штат Индиана)
«Готовый к употреблению» объект-продукт не нуждается в руке художника, следовательно, к нему неприменим критерий качества произведения. Это обстоятельство бросило тень и на рукотворные работы, создав огромные трудности для профессиональной критики, ибо профанное и высоконормативное как бы постоянно менялись местами. Но на этом игра их совмещений не исчерпывалась, как в случае с писсуаром-Буддой, когда одновременно с профанизацией традиционного иконографического образа состоялась и «валоризация» профанной вещи. Выяснилось, что эта вещь имеет неожиданные аналогии и подобия с нормативными знаками другой культуры. Как видим, здесь уже заложены основы поэтики сюрреализма. Важно отметить, что вся эта перекодировка смыслов в качестве главной стратегии художника оказалась возможной лишь при обыгрывании в сознании и автора, и зрителя строго подразумеваемой границы между высоким и профанным.
Наконец, третий способ совмещения определяет вторую половину XX столетия, в конце концов оказавшись одним из элементов постмодернистской стратегии в целом. Устав от пресловутого «цитирования», мы забываем, что за ним стоит открытие нового способа совмещения высоконормативного и повседневного в творчестве крупнейшего живописца Фрэнсиса Бэкона.
В 1950-е годы Бэкон исполнил серию необычных портретов по мотивам шедевра XVII века – Портрета папы Иннокентия X кисти Веласкеса. Художник возвращался к этому прототипу и позднее. Герой с портрета Веласкеса изображен в той же позе, сидящим в кресле в глубине холста. На нем – папское одеяние, но, в отличие от прототипа, его рот растянут в каком-то страшном, нечеловеческом крике. Фигура отделена от зрителя подобием занавеса, собранного в цилиндрические крупные складки и неожиданно просвечивающегося перед папой. Иконография и исполнение шокируют зрителя двояким образом: во-первых, дерзким своевольным обращением с шедевром великой культуры; во-вторых, внезапным «очеловечиванием» этого шедевра, как бы вступающего в контакт со зрителями спустя два с лишним столетия.
На следующем холсте за кроваво-красными полосами просматривается фигура тех же пропорций и с близкими чертами лица. Но это уже не папа Иннокентий, а наш современник, сидящий в кресле, вольно положив ногу на ногу, одетый в костюм, при галстуке и без головного убора. Рот персонажа перекошен в страшном крике. Осуществилась полная трансформация, превращение одного персонажа в другой, но достоинство фигуры, пришедшей из эпохи Веласкеса, осталось прежним.
Смысловое содержание подобной операции в монументальном диптихе двухметровой высоты гораздо глубже пустого трюка, механического цитирования искусства прошлого, повсеместно распространенного в постмодернизме.
Вольное обращение с культурным эталоном девальвирует его в сознании современников, следуя логике революционной эстетической концепции Дюшана. В то же время Бэкон валоризировал типаж и художественные приемы сегодняшнего дня. Сознание современника, согласно Ницше, утратившего смысл своего бытия после «смерти бога», получило неожиданную «подпитку» из прошлого культуры, лишенного неприкосновенности. Еще раз высоконормативное и профанное поменялись местами, проигнорировав отныне понятие границы, ибо перекодировка смыслов состоялась уже исключительно в контексте культуры.
Ситуация с традиционной картиной внутри авангарда
Выдержанная диалектическая концепция выставки «Эпоха открытий. Искусство XX века во Франции», отвечая духу нашего времени, жаждущего подведения итогов, и согласно с рациональностью французской научной мысли, дает возможность выстроить определенную последовательность, обусловленную представлением об эволюции авангардных феноменов от фовизма до наших дней. При этом складывается образ авангарда в пластических искусствах, определяющего собою истинное лицо культуры XX столетия, причем образ, обладающий поразительной цельностью, единством, утверждающим себя даже на этапах рефлексии, самоотрицания. Внутри органического роста, заявляющего о себе лишь в фактах бесспорных открытий, абсолютной новизной сопоставимых разве с изобретениями в науке, – этот авангард руководствуется двумя творческими импульсами – культурными тенденциями: упорядоченным жизнестроительным пытливым знанием и, как следствие спонтанного разрыва с ним, – стремлением к авантюре, это знание игнорирующей. Подобная амбивалентность создает гносеологию авангарда, абсолютизирует его творческие возможности, уподобляя авангардную теорию постхристианскому богословию XX столетия, поглощающему крайние апофатические свидетельства своих адептов. Пластический авангард, имеющий дело лишь с тактильными и визуальными реалиями, способными выражать наиболее отвлеченные философские идеи, рожденные эпохой, существует как бы и вне ее, обладает свойством преодоления времени; не случайно теоретик выставки Д. Абади, опираясь на стоящего у истоков авангарда Г. Аполлинера, сводит весь дуализм ее замысла к прочитанному Ницше вечному диалогу Аполлона и Диониса. Вряд ли какая-либо иная история визуальной культуры, кроме французской, могла предоставить материал для подобного исследования. В недрах французского искусства конца XIX века был зачат авангард, он открыл собою во Франции XX столетие для всего мира; и впоследствии, несмотря на этапный приоритет то Германии, то США, сохранял свой новаторский лик и исполнял своего рода охранительные функции по отношению к социальной или политической структурам, периодически подчинявшим себе новейшие художественные течения Германии, США, Италии или России. Строгость и независимость французского пластического авангарда от всех возможных салонных или политических посягательств составляют его безусловную специфику.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
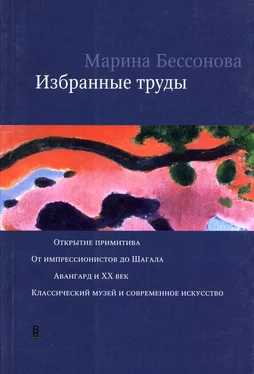






![Владимир Кудрявцев - Избранные труды [сборник]](/books/402626/vladimir-kudryavcev-izbrannye-trudy-sbornik-thumb.webp)