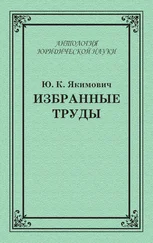Марина Александровна Бессонова. 1990-е
А заключалась она в моей принадлежности к пластической традиции искусства. К концептуальной же его ветви, привитой Дюшаном и бурно цветущей открыто на Западе и подпольно в Москве, у меня был на тот момент чисто академический интерес. Исключение составляли Пригов и Рубинштейн, то есть литературное ее воплощение в так называемом московском авангарде. «Объективный ход развития искусства» в мире утверждал устами высоких авторитетов на Западе поражение живописной традиции, ее анахроничность, подразумевающую ее неспособность говорить новое о мире новым языком. Эта точка зрения была Вам известна, и у Вас не было оснований не соглашаться с ней. Для большинства традиционных искусствоведов и художников проблема жизнеспособности и будущего пластической традиции не стояла, поскольку они не подозревали о существовании подобной проблемы или же не принимали ее всерьез. Для меня она не только стояла, но висела громадной тяжестью, грозящей раздавить. Признать справедливость ущербного, обреченного положения живописи, значило в моем сознании согласиться на априорную вторичность собственной жизни, то есть добровольно зачеркнуть ее, что было невозможно. Оставалось – разобраться, что и было сделано. Это потребовало времени и принесло не чуждую мне анархическую свободу, но свободу через понимание, а с ней – уверенность, позволяющую не зависеть от «мирового мнения».
Сейчас я знаю то, чего не знала тогда: причин произнесенного живописи приговора и причин ее серьезной болезни. Знаю, почему ложно заключение об ее неспособности к самообновлению. Постмодернистское утверждение доминанты ТЕКСТА по отношению к визуальному ОБРАЗУ – временное явление. Оно – свидетельство новой ступени в понимании природы человеческого мышления. Через ТЕКСТ. Но ТЕКСТ – лишь экскремент МЫШЛЕНИЯ, его «материальная улика», «вещественное доказательство невещественных отношений». Процесс вербализации не есть процесс мышления, но лишь его завершающий, коммуникативный уровень, лишь один из способов социализации того, что традиционно принято называть мыслью, а точнее было бы назвать чем-то «трехэтажным», для чего и названия не существует, нечто вроде «чувство-мыслеобраза». «Люди – странные существа, не отличающие меню от еды».
Любая концепция, в искусстве ли, философии или науке, создается в мозгу на довербальном уровне, условно говоря, на уровне доили подсознательного мышления. Она и есть высшая степень организации Персональной Вселенной владельца, которая выстраивается как жесткий конструкт. Для художника концепция проявляет себя в наличии собственного языка, ясности и силе высказывания. Это касается и пластической традиции. Очевидно, что принадлежность к концептуализму, как и к любому другому течению, не дает гарантии того, что художник ею обладает. Есть она или ее нет – это, как говорится, сугубо личное дело. Ни один яркий художник не смог бы состояться, не имей он своей личной концепции. Но факт в том, что на данный момент времени живопись опасно больна. Будет ли летальным исход? Этого я предсказать не могу, но, если живопись и умрет, причиной будет не неизлечимость самой болезни, но, так сказать, психологический фактор: больная поверила в свою обреченность и перестала бороться. А бороться приходится не только с внутренней хворью, но и с теми могущественными силами, которые, объявив похороны состоявшимися, тем самым формируют общественное мнение.
Простите, Марина, это пространное отступление, но высказанное и есть контекст наших с Вами отношений в течение двадцати лет… Так много и так мало…
Вы не можете представить, какой поддержкой для меня была фраза, которой Вы заканчивали статью о моих холстах: «Светящиеся прозрачные «аксиомы» С. Богатырь еще раз ставят под сомнение непреложность вынесенного «пластическим достоинствам» в последние два десятилетия приговора». Защищая мои холсты, Вы рисковали собой. Статья была написана в 1990 году, когда локальная московская ситуация уже распахнулась в мировую. НО еще не было ясно, что из этого проистечет.
Жизнь менялась. Ваша и моя тоже. Я продолжала решать свои проблемы и «выяснять отношения с миром» в новом пространстве. Вы приезжали в Париж, я – в Москву. Ваша профессиональная жизнь происходила как бы на разных «этажах» одновременно. Как музейный работник высшего ранга Вы общались с западными коллегами: директорами музеев, кураторами – «сильными мира сего». Это был «высший этаж». С него обычно и произносятся приговоры, декреты и амнистии в искусстве. Другой этаж – Вас приглашали в качестве эксперта новые русские коллекционеры в Америке или русскоязычные галеристы. Именно этот новый опыт позволил Вам увидеть жестко обустроенную систему ранжиров на Западе. И Ваши рассказы были ценными добавлениями к моим наблюдениям и размышлениям. «Этажи» не пересекались, они были строго изолированы. Появляясь на «высшем» в качестве официального лица, Вы имели соответствующий рангу прием, но не имели права сказать даже слово о проблемах «другого этажа» – это было бы непростительным faux pas с Вашей стороны… Этикет и границы жестко организованной структуры функционирования искусства в обществе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
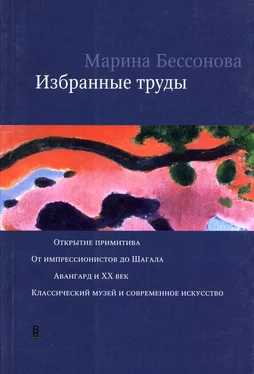






![Владимир Кудрявцев - Избранные труды [сборник]](/books/402626/vladimir-kudryavcev-izbrannye-trudy-sbornik-thumb.webp)