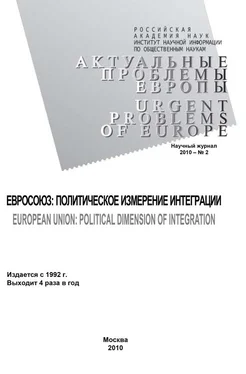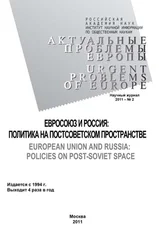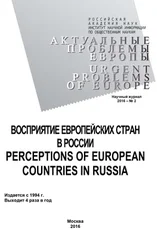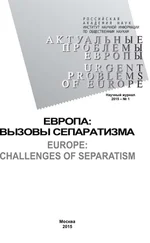Реакция общественности на решение Конституционного суда была гораздо более откровенна. В Германии, как и в других странах Евросоюза, довольно широко распространен скепсис относительно так называемого «линейного» характера процессов европейского единения. Эта позиция – на уровне распространенных стереотипов – нашла отражение в печати. Подобное направление дискуссий отражает своеобразный феномен немецкой политической культуры. Всякий раз, когда разговор заходит о конечной политической цели ( finalité politique ) европейской интеграции, берет верх детерминистский подход: предполагается, что Евросоюз движется в одном направлении – к определенной и неизбежной цели. Дискуссия о finalité politique формирует представление, что этой целью является государство и что нынешняя Европа – некая незаконченная структура на пути к конечной цели. На такой телеологической интерпретации процессов европейского единения, т.е. по сути на стереотипе, и строят свои аргументы критики европейской интеграции. Во-первых, утверждается, что Европа не может быть государством, потому что у нее «нет государственных подданных», а во-вторых, что ей нельзя быть государством, потому что оно будет недемократичным. Отмечают, что за всю историю европейской интеграции не существовало ни одного договора, ни одного официального общеевропейского документа, где говорилось бы, что целью процессов европейской интеграции является единое государство Европы или что Европа сама придет к государственной форме, если будет последовательно идти по пути интеграции. Ни в истории ФРГ, ни в истории других государств – членов ЕС никогда не формулировалась такого рода finalité politique, никогда не говорилось, что конец государства и его растворение в государстве Европы – конечная цель европейской интеграции. И тем не менее критики снова и снова вменяют Евросоюзу в вину его стремление к «государственности» и на этом, чуть ли не эсхатологическом аргументе, строят свою критику, призывая положить четкие пределы процессам интеграции. На самом же деле Евросоюз от процесса поиска формы давно уже перешел к процессу оформления содержания. У национальных, исторически сложившихся государств нет какой-то конечной, программной, заранее разработанной цели, к которой они должны стремиться или к которой их должно привести политическое развитие. Нет такой цели и у Евросоюза. Речь идет скорее о прагматическом распределении и организации интересов в системе многоуровневой власти – локальной, региональной, национальной и общеевропейской. Поэтому решение Конституционного суда – это не решение «за» или «против» Европейской федерации. Такое решение просто невозможно принять по той простой причине, что никто не знает, чем закончится развитие Евросоюза: оно является таким же открытым процессом, как и развитие государств. Прогнозировать его «конечное качество» может разве лишь тот, кто отрицает открытость, перманентную незавершенность исторического процесса. Решение Конституционного суда и тем более нелестные для ЕС интерпретации этого решения – это всего лишь вклад в дискуссию о наиболее приемлемом распределении компетенций между различными уровнями в европейской системе политической власти. Поэтому ничего особенного, судьбоносного для ЕС в этом решении нет. В Германии, как и во всех других федерациях, процесс политической власти осуществляется в рамках национального федеративного государства. И никому не придет в голову связывать споры между федерацией и субъектами федерации с вопросом о какой-то finalité politique, к которой Германия должна стремиться.
В этой связи нельзя не заметить, что нынешняя оживленная критика Евросоюза в Германии и в других странах-членах, концентрируясь на якобы принципиальных вопросах, в то же время не слишком углубляется в насущные, реальные вопросы его развития. Обратимся к отдельным, наиболее часто обсуждаемым пунктам.
● Единообразие правовых нормативов . Без acquis communautaire, т.е. без общеевропейских правовых нормативов, не смогла бы функционировать та система европейского Единого рынка, благодаря которой выросло благосостояние немецкого населения. Почти 60 % объема немецкой внешней торговли было направлено в страны Единого рынка. Нынешняя дискуссия о роли Европейского суда, которую пытаются превратить в фундаментальный спор о примате общеевропейского или же национального права, лишена субстанции. В каждом конкретном случае может иметь место либо обращение к компетенциям национального государства, либо же, напротив, передача этих компетенций на общеевропейский уровень – в зависимости от того, что имеет в данном случае больше смысла. Это – чисто практический вопрос, а не предмет для догматических споров о примате европейского права или же отмене такового. Урегулировать его раз и навсегда просто невозможно – ни принятием общеевропейского договора, ни решением Конституционного суда, ни реанимацией «национального парламентского авторитета». Присущие любой федеративной системе власти споры о компетенциях характерны и для Евросоюза. Поэтому неудивительно, что некоторые немецкие федеральные земли уже требуют права голоса в принятии решений на общеевропейском уровне.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу