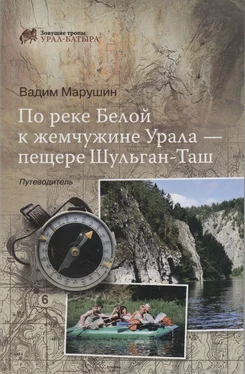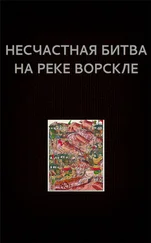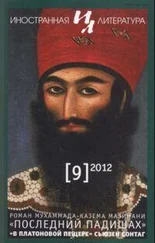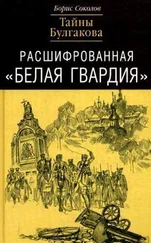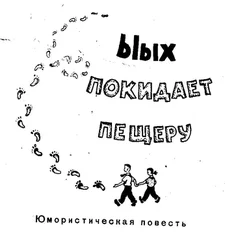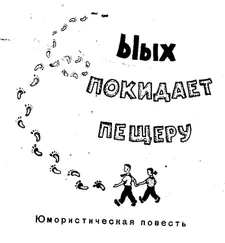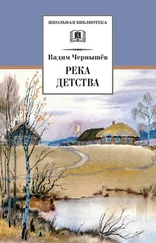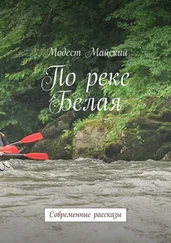Не только у деревни Мурадымово, но и у всех других деревень люди с удивлением глядели на нас, невесть как попавших в эту лесную глухомань. Дорог в те времена практически не было. Транспорта, кроме лесовозов и трелевочных тракторов, вывозивших с лесосек хлысты деревьев, тоже. Но весной, во время молевого сплава древесины по реке, а он продолжался почти до восьмидесятых годов, в деревнях для лесосплавщиков организовывали выездные магазины. В них было все: сгущенка, мясные и другие консервы, обувь, шик тогдашней моды — нейлоновые носки и рубашки — и другие импортные товары, которые в магазинах наших городов нельзя было купить.
Практически все жители деревень участвовали на лесосплаве. Одни вывозили с лесосек бревна к реке, другие следили за их прохождением в узких местах речной долины, а эти места, как правило, были там, где находились острова. Здесь строили добротные рубленые дома с большими деревянными нарами для рабочих лесосплава, устанавливали в них печки-буржуйки для приготовления пищи, обогрева и сушки одежды. Эти дома для туристов тех лет были надежным прибежищем в случае ненастья. За ними следили все. И не дай бог, если уличали кого-нибудь в их порче. Разговор с ними был мужским и коротким. Туристы уважали тяжелый труд лесосплавщиков, а те благосклонно относились к туристам.
В те годы жители деревень, которые встречались на нашем пути, были не просто приветливыми, а душевными и гостеприимными. О том, чтобы кто-то отказался продать молока или хлеба, просто речи не могло быть. Все были искренне рады встрече, помогали, чем только могли. Прекрасные были времена! С Человеческим отношением друг к другу.
Рыбы в реке было столько, что одной удочкой ловили на всю компанию. Многие, наверное, не поверят, что если тихо, не шевеля веслами, проплыть вблизи камышей, а затем резко опустить весла в воду, создавая таким образом шум, то две-три рыбины запросто могли оказаться в лодке. Обычно это были окуни и плотва. Поэтому, смеха ради, мы «изгалялись» этим приемом, отпуская запрыгнувшую в лодку рыбу обратно в реку.
Более полувека прошло с тех пор. Река и жители деревень изменились. Но все также выходят на берег ребятишки и просят у туристов рыболовные крючки. Все также судачат аксакалы-картатаи, следя за своими внучатами, купающими в речке лошадей. Изменилось многое, но национальный дух гостеприимства жителей прибрежных деревень сохранился. А это самое ценное.
Скалы все чаще подступают к реке, образуя отвесные кручи с зияющими в них черными глазницами пещер. Некоторые из них заслуживают статуса памятника природы. В то же время часть их по причине частого посещения и варварского потребительского отношения к ним утратила свою былую значимость. Этот недостаток частично был устранен в начале 1990-х годов, когда была произведена общая сравнительная оценка всех пещер РБ независимо от их официального статуса.
Оценка пещер велась по единой балльной методике Всесоюзного общества охраны природы. В результате этого только в горной части Башкортостана к памятникам природы были отнесены 23 пещеры, а к компонентам ландшафтных заказников, национальных парков и заповедников — 18 пещер. Всего же в кадастр карстовых полостей, созданный спелео-геоморфологом Ю. В. Соколовым, внесено уже более 1000 пещер.
Проникновение в пещеру всегда было связано с необъятным ужасом перед неведомым миром мрака. Подобное состояние «временной смерти» подготавливало человека к глубокому мистическому восприятию таинства религиозных действий, раскрывающих основную идею мировосприятия — дилемму Жизни и Смерти. Пещера как бы «заглатывала» испытуемого, который воспринимал это действо как временную смерть, а затем «изрыгала из своего чрева» его, уже перерожденного.
Эта архаическая ассоциация «чудовища-глотателя» и ритуальные обряды, связанные с пещерами, как пишет мой товарищ археолог Вячеслав Котов, были известны до недавнего времени только по материалам австралийских исследователей. Теперь же они присутствуют и в башкирском фольклоре.
Кроме того, пещера издавна являлась для людей и своеобразным убежищем в периоды войн и набегов чужеземцев. Вполне вероятно, что люди укрывались в ней и в периоды стихийных бедствий и катастроф, вызванных затяжными дождями, ураганами, резкими похолоданиями или обильными снегопадами.
После кромешной тьмы, пронзенной лучами налобных фонарей, неслышных полетов летучих мышей-крыланов, рассекающих черноту огромных полостей пещер, особо остро воспринимается свет окружающего мира, чарующие закаты и восходы дневного светила, нежданные встречи с животными, нашедшими свой приют на речных берегах.
Читать дальше