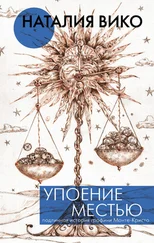Жозефина плакала, а Бонапарт пытался одной рукой вытереть слезы с ее лица, а другой шутливо отбивал военный марш по ее телу.
«А! Дюма, – сказал он, увидев моего отца, – ты как нельзя кстати: ты должен помочь мне вразумить эту сумасшедшую женщину с ее желаниями. Разве ей следует отправиться с нами в Египет? Вот ты бы взял туда жену?»
«Честное слово, конечно нет», – говорит Дюма, и собеседники начинают обмениваться вымученно игривыми фразами, пытаясь развеселить заплаканную женщину и отвлечь ее от печальных мыслей. Однако положение дел лишь ухудшается после слов Наполеона о том, что поход может продлиться несколько лет. Он еще раз обращается к Дюма за поддержкой, говоря Жозефине, что, если все обернется именно таким образом, она и мадам Дюма смогут вместе с очередным конвоем приехать в Египет вдвоем. («„Это устраивает вас, Дюма?“ – „Полностью“, – отвечает мой отец».) И там, продолжает Наполеон, известный своей бездетностью, воссоединившиеся супруги смогут посвятить свои усилия зачатию младенцев мужского пола, ведь «у Дюма… есть только дочери [так], а у меня… нет даже их». Если повезет, говорит он Жозефине с торжеством, они все вместе станут крестными родителями. Вслед за этим Наполеон заканчивает: «Вот видишь, я обещаю тебе; перестань плакать, и дай нам поговорить о деле».
Затем, повернувшись к Дермонкуру, Бонапарт сказал:
«Господин Дермонкур, вы только что слышали случайно вырвавшееся слово, указывающее на цель нашего похода. О ней не знает ни единая душа: слово „Египет“ не должно случайно слететь с ваших губ. Вы понимаете всю важность сохранения этой тайны – с учетом обстоятельств».
Дермонкур знаком дал понять, что будет нем, как ученик Пифагора.
В действительности Дюма никогда не был наперсником Наполеона и тот вряд ли доверил ему великую тайну о цели похода. Хотя в прощальном письме Мари-Луизе Дюма верно угадал место назначения (или, быть может, раскрыл секрет, который действительно знал?):
Срочно – с доставкой через Париж
Гражданке Дюма, в ее собственный дом
…Я отплываю в течение часа, но подробнее напишу тебе по дороге. Прощай, я ужасно спешу. Отец мой [быть может, какой-нибудь священник, с которым Дюма передает деньги для жены?] выехал этим утром с 115 золотыми луидорами. Полагаю, мы отправляемся в Египет. Счастливо, всем огромный дружеский привет.
Алекс Дюма.
Дюма и Дермонкур поднялись на борт [825]среднего по размерам судна под названием «Guillaume Tell» [826](«Вильгельм Телль») [827]. (Наполеон отплыл на судне «Orient» [828]– колоссальном, крупнейшем в мире военном корабле [829], гордо несущем 120 орудий, которые были установлены на трех палубах.) Армада подняла паруса и направилась к первому сборному пункту – острову Мальта, у побережья Сицилии. Между тем британский адмирал Нельсон лишился важного инструмента для слежки за французами, после того как внезапный шторм отрезал его от двух основных фрегатов [830]. Потеря этих быстроходных, легких разведывательных судов – в те времена ближайшего эквивалента радару – означала, что у Нельсона почти не осталось шансов отыскать французскую армаду: даже в ясную погоду возможности разведки ограничивались радиусом в 30 километров [831]– пределом дальности принадлежащей Нельсону подзорной трубы фирмы Доллонд [832], самой совершенной из имеющихся. Военные действия на море в конце восемнадцатого столетия представляли собой сложнейшую игру в прятки: на обнаружение противника могли уйти дни, недели или месяцы.
Мальта обладала мощной системой укреплений, которые начиная с шестнадцатого века успешно противостояли всем захватчикам. Турки как-то потеряли пятьдесят тысяч человек при осаде Мальты и вынуждены были уйти ни с чем. Наполеон планировал занять остров, а затем улизнуть с поистине королевским выкупом. На эти средства плюс трофеи Итальянской кампании он намеревался финансировать вторжение в Египет.
С древнейших времен Мальтой правила невероятная череда захватчиков – финикийцы, византийцы, карфагеняне, римляне и арабы. Но название острова ассоциируется с самыми яркими и упорными его завоевателями – мальтийскими рыцарями [833]. Впервые собравшись в одиннадцатом веке в Иерусалиме в виде Ордена святого Иоанна, эти вояки служили основой для представлений о мире реального рыцарства в той же мере, в какой король Артур и его рыцари были источником для легенд об идеальных витязях. В обмен на поддержку со стороны папы Римского, рыцари поклялись оберегать паломников и больных, а также защищать Веру на землях, которые крестоносцы отбили у мусульман. Они стали называть себя святыми рыцарями и носить знак, превратившийся в их «торговую марку»: белый восьмиконечный крест, образованный четырьмя V-образными остриями оружия, сходящимися в центре, и все это – на красном или черном поле [834].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
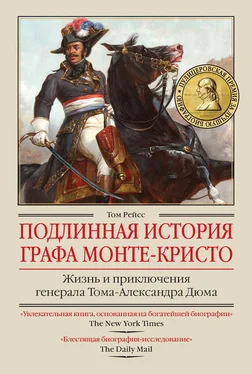
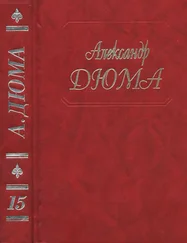
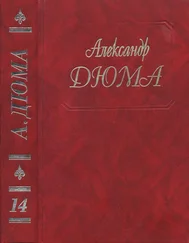

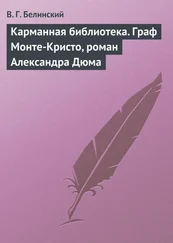
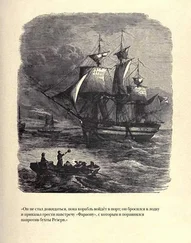

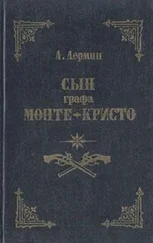
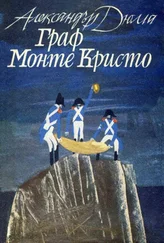
![Александр Дюма - Граф Монте-Кристо [сборник litres]](/books/431076/aleksandr-dyuma-graf-monte-kristo-sbornik-litres-thumb.webp)