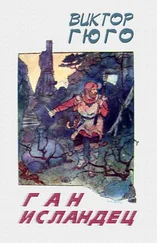Но до тех пор он будет по-прежнему держаться вдали от театра. И он слишком рано покинет свое дорогое целомудренное уединение для суеты этого нового мира. Боже, сделай так, чтобы он никогда не раскаялся в том, что подверг девственную неизвестность своего имени и своей личности превратностям подводных камней, шквалов и бурь галерки, и особенно (так как что за важность – провал!) жалким дрязгам кулис; что он вступил в эту переменчивую, туманную, бурную атмосферу, где поучает невежество, где шипит зависть, где плетутся интриги, где так часто недооценивали честный талант, где благородная искренность гения иногда несколько не к месту, где торжествует посредственность, низводя до своего уровня тех, кто ее превосходит, где столько незначительных людей на одного великого человека, столько ничтожеств на одного Тальма, столько мирмидонян на одного Ахилла 33! Быть может, этот набросок покажется слишком мрачным и не слишком лестным; но не проясняет ли он окончательно различие между нашим театром, местом интриг и распрей и торжественным спокойствием античного театра?
Что бы ни случилось, автор считает своим долгом заранее предупредить тех немногих, кого прельстит подобное зрелище, что пьеса, извлеченная из «Кромвеля», займет времени не меньше, чем любой спектакль 34. Романтическому театру трудно утвердиться иначе. Конечно, если вы хотите чего-то другого помимо всех этих трагедий, в которых один—два персонажа, абстрактные выражения чисто метафизической идеи, торжественно прогуливаются на лишенном глубины фоне всего с несколькими наперсниками, бледными копиями героев, призванными заполнить пустоты простого, однообразного и монотонного действия; если вы устали от этого, одного вечера не будет слишком много для того, чтобы довольно подробно раскрыть исключительного человека или целую переломную эпоху; одного – с его характером, с его дарованиями, которые тесно взаимодействуют с этим характером, с его верованиями, господствующими над ними, с его страстями, будоражащими его верования, характер и дарования, с его вкусами, оказывающими влияние на его страсти, с его привычками, которые направляют его вкусы, держат в узде страсти, и с этой бесконечной вереницей всякого рода людей, которых эти различные факторы заставляют кружиться вокруг него; вторую – с ее нравами, законами, вкусами, с ее духом, ее познаниями, ее суевериями, ее событиями и с ее народом, который все эти первопричины по очереди разминают, как мягкий воск. Понятно, что подобная картина будет гигантской. Вместо одной личности, которой довольствуется абстрактная драма старой школы, их будет двадцать, сорок, пятьдесят – откуда мне знать? – различной выразительности и различных размеров. Их будет целая толпа в драме. Не мелочно ли было бы ограничивать ее длительность двумя часами, чтобы отдать остальное время комической опере или фарсу? Урезывать Шекспира ради Бобеша 35? И, если действие хорошо построено, пусть не думают, что множество фигур, которых оно пускает в ход, может утомить зрителя или внести чрезмерную пестроту в драму. Шекспир, щедрый на мелкие детали, в то же самое время и именно по этой причине велик в создании огромного целого. Это дуб, который отбрасывает колоссальную тень тысячами маленьких зубчатых листьев.
Будем надеяться, что во Франции скоро привыкнут посвящать весь вечер одной пьесе. В Англии и Германии есть драмы, которые длятся по шесть часов. Греки, о которых нам столько говорят, греки, и, на манер Скюдери, мы здесь ссылаемся на классика Дасье, глава VII его «Поэтики», греки иногда смотрели двенадцать или шестнадцать пьес в день. У народа, любящего зрелища, внимание более стойкое, чем думают. «Женитьба Фигаро», этот узел великой трилогии Бомарше, занимает весь вечер, кого она утомила или заставила скучать? Бомарше был достоин отважиться на первый шаг к этой цели современного искусства, которое не в состоянии за каких-нибудь два часа извлечь этот глубокий, непреодолимый интерес, являющийся результатом широкого, правдивого и многообразного действия. Но говорят, что спектакль, состоящий только из одной пьесы, был бы однообразен и показался бы длинным. Это заблуждение! Он, напротив, утратил бы свою нынешнюю длину и однообразие. Действительно, что сейчас делают? Разделяют наслаждение зрителя на две резко разграниченные части. Сначала ему дают два часа серьезного удовольствия, затем час удовольствия игривого; с часом антрактов, которые мы удовольствием не считаем, получается всего четыре часа. Что бы сделала романтическая драма? Она бы мастерски раздробила и смешала эти два вида удовольствия. Она бы заставила публику поминутно переходить от серьезного к смешному, от шутовского возбуждения к душераздирающим сценам, от серьезного к нежному, от забавного к суровому. Поскольку драма, как мы уже установили, – это соединение гротеска с возвышенным, душа в оболочке тела, это трагедия в оболочке комедии. Не очевидно ли, что, отдыхая от одного впечатления при помощи другого, заостряя поочередно трагическое комическим, веселое ужасным, добавляя даже, по необходимости, очарование оперы, представления эти, состоя лишь из одной пьесы, стоили бы нескольких? Романтическая сцена приготовила бы пикантное, разнообразное, вкусное блюдо из того, что на классической сцене представляет собой лекарство, разделенное на две пилюли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
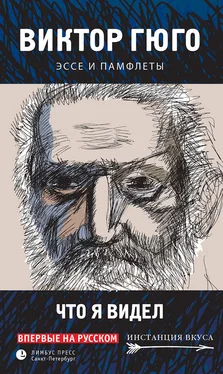
![Виктор Гюго - Собор Парижской Богоматери [Notre-Dame de Paris]](/books/30985/viktor-gyugo-sobor-parizhskoj-bogomateri-notre-thumb.webp)