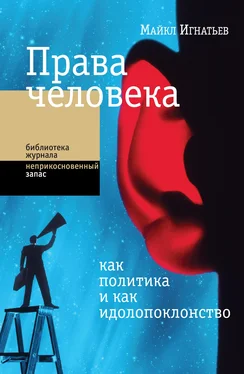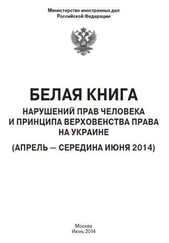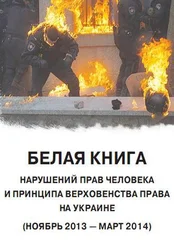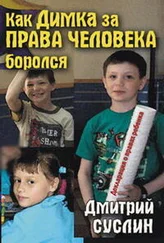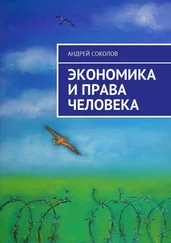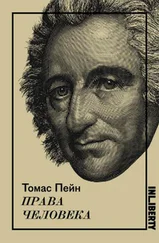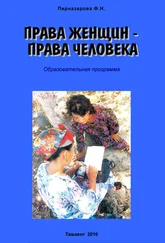Можно ли отсюда сделать вывод о том, что множественность оснований лишает правозащитный режим философской или моральной целостности? Вовсе нет. Он предстает политическим инструментом и в данном качестве нуждается в таких основаниях, которые годятся для реализации его предназначения. Когда международные правозащитные группы, вместо того чтобы настаивать на каком-то одном основании прав человека или же на полном отсутствии у них оснований, проявляют публичное уважение к принципу множественности, правозащитный режим, пригодный для плюралистичного мира, укрепляется. Если у прав человека не просто одно основание (или такового вовсе нет), а целый ряд оснований, тогда, с точки зрения политической морали, появляется веская причина для того, чтобы рекомендовать создателям официальных международных документов избегать любого упоминания о самом «верном» и единственно «подлинном» метафизическом базисе прав человека. Одновременно и у правозащитного режима возникает хороший стимул приветствовать разнообразные не эксклюзивные трактовки, религиозные и светские, позволяющие легитимно обосновывать права человека. Человеческая субъектность, достоинство человеческих существ, равенство людей в творении – вот лишь три из целого ряда оснований, которые не являются противоречащими друг другу, несмотря на то, что защитники различных моральных апологий нередко считают превознесение их самих более важным делом, нежели попечение о воздвигаемых на них правах. Но когда основания прав становятся более важными, чем сами права, а разногласия вокруг них делаются поводом для попрания прав, тогда «идолопоклонство» в отношении абстрактных идей превращается в серьезную политическую проблему. Вера в «правильные» основания прав человека не может быть важнее «правильного» отношения к людям, строящегося на уважении их прав.
Кто-то, однако, может возразить, что почитание человеческой субъектности или человеческого достоинства всегда влечет за собой если и не принятие, то уважение широкого спектра позиций, касающихся оснований прав человека. В конце концов, свободные люди чаще спорят о метафизических основаниях, нежели о вытекающих из них практических следствиях. Так, основания утилитаризма и деонтологии, подобно основаниям многих других религиозных и секулярных мировоззренческих систем, совсем не похожи друг на друга. Но разница в основаниях не мешает конвергенции упомянутых доктрин в деле защиты базовых прав человека. Сказанное верно даже в отношении философских учений коммунитаристского толка, многие из которых защищают права человека, несмотря на все свои разногласия с либеральным индивидуализмом. Коллективистская защита прав человека не отрицает моральной ценности индивидов, более того, в ней системная связь между индивидом и сообществом отстаивается более жестко, чем у многих либералов. Абсолютное и безоговорочное отрицание моральной ценности индивидов несовместимо с защитой прав человека. Но в большинстве случаев, когда люди продолжают аргументированно спорить друг с другом относительно оснований, на которых должна базироваться правозащитная идея, они также получают сопутствующую выгоду от свободного и избавленного от страха диалога, который сам по себе поощряет признание прав человека.
Отстаивание прав человека в качестве прагматического инструмента поднимает вопрос о том, способен ли международный правозащитный режим функционировать без каких-либо моральных и метафизических оснований вообще, ограничивая себя лишь чистой прагматикой. По утверждению Игнатьева, не только может, но и должен, хотя комментаторы его текстов высказывают сомнения в этом. Но до какой степени сам Игнатьев последователен в своей «безосновной» позиции? На мой взгляд, он заметно противоречит себе. Намереваясь подкрепить тезис о том, что правозащитный режим может прекрасно действовать даже без морального и метафизического оправдания, он ссылается на статью 1 Всеобщей декларации прав человека. Но действительно ли текст этой статьи обходится без упоминания каких-либо моральных или метафизических оснований? Чтобы разобраться в этом, процитируем ее: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». Действительно, в этих двух простых предложениях Декларация не выдвигает какого-то единого обоснования прав человека. Но одновременно она и не обходит этот вопрос стороной, кратко констатируя наличие у них множества оснований, среди которых следующие:
Читать дальше