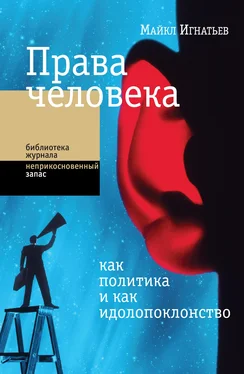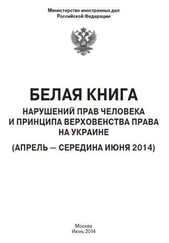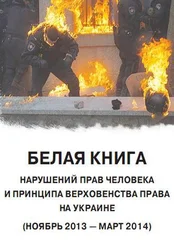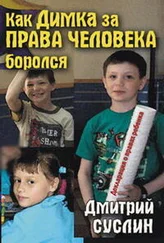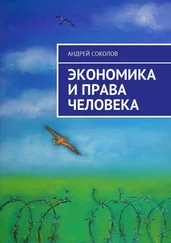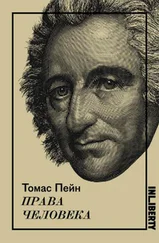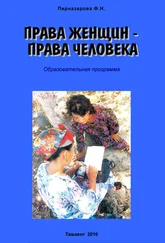Другая причина, заставляющая усомниться в правильности сведéния правозащитных режимов к самым минимальным стандартам, коренится в проблемах, возникающих в связи с принятием, интерпретацией и практическим применением даже самых скупых формулировок прав человека. «Минимальное» отнюдь не тождественно «общепринятому» или «легко внедряемому». Возможно, заручиться всеобщим согласием по поводу такого набора прав человека, который сочетает защиту негативных свобод с правом на материальное жизнеобеспечение, гораздо легче, нежели ограничить правозащитный режим сугубо негативными свободами. Игнатьев воздерживается от подобного заявления, но он не раз намекает на то, что принцип человеческой субъектности поддерживает только негативную трактовку свободы. Я не согласна с этим: по моему мнению, такой редукционизм недопустим. Но мой аргумент – лишь один из числа многих, которые можно привести в пользу включения права на жизнеобеспечение (и, возможно, каких-то иных прав) в такой правозащитный режим, который не будет ни минималистским, ни максималистским.
Несмотря на всю привлекательность минимализма, стоит заметить, что и так называемый минимальный набор прав человека не является ни очевидным, ни общепризнанным, даже в кругу людей доброй воли. Даже по поводу средств, защищающих от «жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство наказания», продолжаются споры. Когда Талибан убивает неверных жен, побивая их камнями, это бесспорное нарушение права быть избавленным от жестокости, бесчеловечности или унижения. Но попирают ли Соединенные Штаты сам минимальный набор прав человека, когда их юридическая система приговаривает людей к смерти? Представляет ли смертная казнь, практикуемая сегодня в США, нарушение прав, предусмотренных статьей 7 Международного пакта о гражданских и политических правах? Отвечающий на этот вопрос утвердительно вовсе не думает, что американская смертная казнь эквивалентна зверствам, совершаемым Талибаном, а отвечающий на этот вопрос отрицательно отнюдь не обязательно должен быть сторонником смертной казни как таковой. Данный пример показывает, насколько сложно определить, что относится даже к самому минимальному набору прав человека. Если смертная казнь противоречит минимальному набору прав человека, то тогда несостоятельными оказываются утверждения о том, что указанный минимальный набор неоспорим или что ему можно обеспечить безоговорочную поддержку со стороны мирового сообщества. Американское правительство прославилось – или обесславилось, в зависимости от точки зрения, – своим нежеланием признавать легитимность принудительного обеспечения прав человека вопреки его воле на том основании, что его власть базируется на «согласии управляемых» с принципом конституционного демократического суверенитета. Пример со смертной казнью показывает, что суверенность конституционного демократического режима не является гарантией против тирании большинства или меньшинства. (В демократиях большинство управляет далеко не всегда.) Он также оставляет открытым вопрос о том, можно ли посредством международных соглашений или внешнего принуждения гарантировать нечто большее, нежели минимальный набор прав человека.
Не менее серьезной проблемой для прав человека на международной арене остается национализм, о чем свидетельствует нежелание многих обществ полностью или частично соблюдать правозащитный режим. Национализм нередко пытаются рассматривать в правозащитной перспективе, видя в нем воплощение права на самоопределение народа. Игнатьев проницательно отмечает, что национализм – обоюдоострое оружие. Будучи, подобно правам человека, универсальным феноменом, он воспринимается как право на коллективное самоопределение. Это поднимает вопрос о том, как именно следует относиться к коллективному самоопределению: является ли оно частью минимального набора прав человека в силу присущей ему внутренней ценности (для самоопределяющегося народа) или из-за того, что оно есть инструмент, средство для защиты совместно проживающих индивидов от жестокостей, которые способны причинять им политические системы? Идея, согласно которой государства готовы защищать права человека лучше любой иной институциональной альтернативы, будет инструментально обосновывать коллективное самоопределение, но не защиту национализма как такового. Для того, чтобы отстаивать коллективное самоопределение как средство защиты индивида от государственной жестокости, вовсе не нужно верить в то, что любой народ имеет право на самоопределяющееся государство, которое позволит ему осуществлять суверенитет над его членами.
Читать дальше