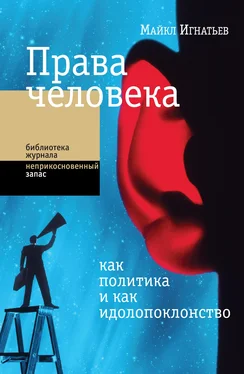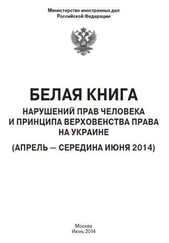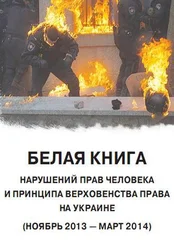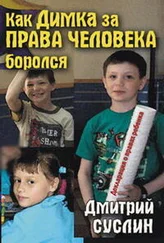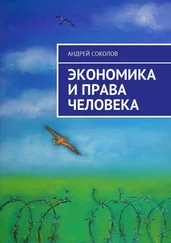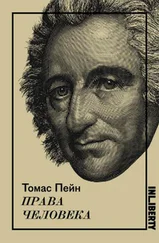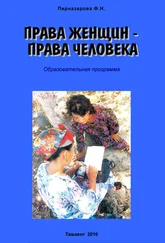Заявление о том, что универсальный правозащитный режим должен быть совместим с моральным плюрализмом, вовсе не означает, что он должен сочетаться с абсолютно любой системой убеждений. Идеология прав человека не может без разбора вбирать в себя любую из существующих мировоззренческих систем или по крайней мере все их доминирующие интерпретации. Мировоззренческая система Талибана сегодня отрицает человеческую субъектность женщин и их человеческое достоинство, причем это делается таким нарочитым образом, который несовместим ни с каким правозащитным режимом. Возможно, когда-нибудь членов Талибана удастся убедить в том, что их отношение к женщинам неправильно, но даже если такое переубеждение окажется невозможным, то и в этом случае права человека не перестанут быть универсальными, причем не в том понимании универсальности, которое означает, будто они есть нечто, воспринимаемое повсеместно. Права человека универсальны прежде всего в том смысле, что они выступают морально оправданным инструментом даже (или, скорее, особенно) в тех ситуациях, когда угнетатели отказываются признавать субъектность или достоинство людей, чью жизнь и свободу они попирают. Или, как пишет Игнатьев, «права человека универсальны потому, что ими определяются универсальные интересы безвластных».
Что же в таком случае стоит за утверждением, согласно которому защита прав человека должна быть совместимой с моральным плюрализмом? Правозащитный режим, сочетающийся с моральным плюрализмом, должен быть приспособлен к наличию множества целостных мировоззренческих систем. От него не требуется согласовываться с каждой из них, поскольку некоторые радикально отрицают права человека – здесь достаточно сослаться на идеологию нацистов. Но при этом многие системы убеждений признают потребность в правах человека, а множественность факторов, поддерживающих их состоятельность, просматривается в самих истоках правозащитной революции. Так, в подготовке Всеобщей декларации прав человека участвовали люди, связанные с культурными традициями Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Африки, а среди их религий были ислам, иудаизм, восточное и западное христианство, индуизм и другие. Со времен выработки первых документов появляется все больше подтверждений того, что идея прав человека может получить поддержку со стороны самых разных культур.
Но почему же тогда мы должны обращать внимание на заявления о том, что права человека вообще нуждаются в каком-то локальном обосновании? На это есть веская причина. С момента принятия базовых правозащитных документов множатся и свидетельства того, что многие представители тех или иных культур и религий пылко отвергают саму идею прав человека, а также и принцип, согласно которому права человека исключительно важны для защиты индивидуальной субъектности или человеческого достоинства в их противостоянии выживанию коллектива . Вопреки зачастую звучащему мнению критиков, целью правозащитной работы выступает не разрушение культур, но их подключение к защите прав человека, причем сама подобная возможность нередко отрицается теми же критиками. Их пророчество, согласно которому права человека в конечном счете разрушат их культуры, может оказаться автоматически реализующимся (ведь на его основе и базируется отторжение этой идеи), но далеко не очевидно, что вытекающее отсюда сопротивление обернется либо разрушением культуры, либо продолжением насилия над безвластными людьми. Угнетенные женщины, как правило, хотели бы, чтобы их индивидуальные права уважались в рамках их собственной культуры, а не за счет бегства из нее или уничтожения ее базовых ценностей, признаваемых ими. Культурам, которые ранее развивались на фоне массовых нарушений прав человека – а через это прошли почти все, – предстоит изменить себя, признав основные права женщин и уязвимых меньшинств. Общества, начавшие уважать женщин, не перестают существовать, они просто меняются, иногда весьма значительно, становясь иными морально и политически.
Игнатьев поддерживает основополагающий документ правозащитной революции, Всеобщую декларацию прав человека, за то, что она избегает подведения под права человека спорного религиозного фундамента, используя вместо этого секулярную основу, которая выступает «прагматическим общим знаменателем, призванным обеспечить прилаживание друг к другу различных культурных и политических точек зрения». За отстаиванием секулярных основ, которому предан Игнатьев, стоит признание важности человеческой субъектности. Обосновывая права человека ссылками на защиту человеческого самоопределения, мы делаем их приемлемыми для многих культур. Но я здесь хотела бы подчеркнуть: в принципе, для того чтобы права человека были важны, нет необходимости воздвигать их на каком-то единственном основании, приемлемом для всех их сторонников, будь то понятие человеческой субъектности или иные секулярные и религиозные концепты. Ведь правозащитный режим покоится на множестве оснований, ни одно из которых не должно быть общеобязательным для всех его последователей. Именно плюрализм оснований делает права человека более приемлемыми для общества.
Читать дальше