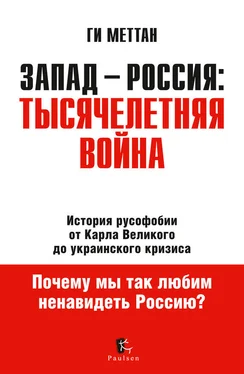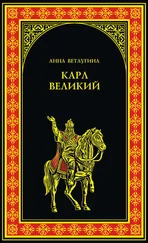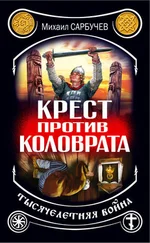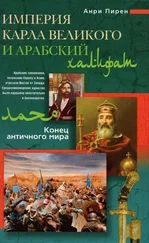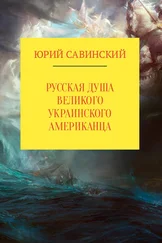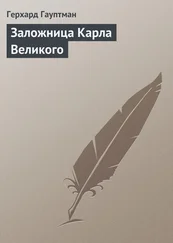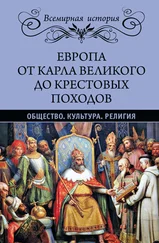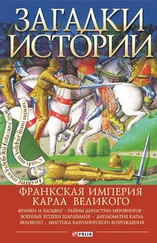Эта идея развивалась на протяжении всего XIX века. Постепенно романтическая реакция на универсализм Просвещения позволила Германии влиться в общий культурный поток и восполнить существующие пробелы благодаря очагам цивилизации, коими выступали Франция в интеллектуальной сфере и Англия начала промышленной революции в экономике.
Со временем теория становилась все более состоятельной. Когда Александр II в 1861 году отменил крепостное право, мир отметил, что Пруссия приняла аналогичные меры на полвека раньше, в 1807 году. В свою очередь, введение парламентаризма в России после неудачной революции 1905 года последовало спустя десятилетия после первых выборов в германский парламент – рейхстаг.
Премьер-министр Великобритании Генри Палмерстон во второй половине XIX века первым сформулировал «систему двух и трех»: две либеральные морские державы (Франция и Великобритания) противостоят трем северным монархиям, континентальным и автократическим (Пруссии, Австрии и России).
Позже структура градиента становится более тонкой. Срединная Европа, образованная Германией и Австро-Венгрией, считается промежуточным звеном между Францией и Великобританией, стоящих на вершине цивилизации, и Россией, которая, по разным оценкам, находится на низшей ее ступени или даже еще не вступила на цивилизационный путь.
Как отметил Мартин Малиа, «если странные кириллические буквы, которые так забавляли Льюиса Кэрролла, являются первым характерным признаком России и ее главным отличием для западного путешественника, давайте не забывать, что в то же время (и даже в 1950-е годы) немецкая Срединная Европа пользовалась готическим шрифтом, который выглядел довольно странно с точки зрения западноевропейцев, привыкших к латинице. Эти три шрифта (латинский, готический и кириллический) весьма наглядно отражают три части европейского западно-восточного градиента» [216].
Теория культурного градиента любопытна тем, что позволяет включать Россию в европейскую цивилизацию или исключать из нее в угоду конъюнктуре момента. Когда Россия становится полезной, как это было во Франции в 1890-х годах, в Великобритании в 1900-х годах и снова во время Второй мировой войны, ее принимают в цивилизацию, указывая, подобно Леруа-Больё, на ее совместимость с Западом. При этом особо акцентируется, как это происходило совсем недавно, во времена Горбачева или в 2001–2003 годах после нападения на Всемирный торговый центр, сходство русских идеалов с идеалами Запада – плюралистической демократией и либеральной экономикой.
Но когда Россия воспринимается как угроза, как это было в 1815, 1917 и 1945 годах или после взятия экономики под контроль Владимиром Путиным в 2003 году, теория градиента становится полезной, поскольку позволяет исключить Россию из числа цивилизованных стран и ввергнуть в варварство со всем арсеналом привычных клише: авторитаризмом, атавистическим экспансионизмом, этатизмом (государственничеством), ретроградным консерватизмом.
Поэтому неудивительно, что гипотеза о постепенном развитии цивилизации по оси запад – восток, или северо-запад – юго-восток со времен Великой французской революции начисто игнорирует девиации в поведении Запада. Никто не говорит о варварстве европейцев в южноамериканских, африканских и азиатских колониях или о терроре в Китае, развязанном колониальными армиями после Боксерского (Ихэтуаньского) восстания в 1901 году. Завесой молчания покрыто и американское насилие над индейцами, а также тот факт, что рабство в США существовало одновременно с крепостным правом в России, и значит, с точки зрения общечеловеческих ценностей Соединенные Штаты были не более «цивилизованными», чем Россия в тот же период.
Важно отметить, что теория культурного градиента не объясняет сдвиг цивилизации в сторону запада, когда после 1945 года экономическим и культурным центром мира стали США. Она также не объясняет русский экономический расцвет в эпоху сталинизма и в 1960-х годах, когда ось прогресса словно сместилась на восток.
В предвоенные годы и до конца 1960-х годов Советский Союз действительно казался миллионам западноевропейцев и граждан освободившихся от колониальной зависимости стран третьего мира образцом прогресса в сравнении с Западом, увязшим в борьбе за свои бывшие колониальные привилегии.
В течение нескольких десятилетий велась идеологическая борьба за право называться двигателем прогресса. Но с конца 1960-х годов старое деление системы на два лагеря вновь стало актуальным. Оно было выгодно исключительно Западу, центром которого стали США, получившие титул «первого» мира, в то время как за советским блоком закрепилось звание «второго».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу