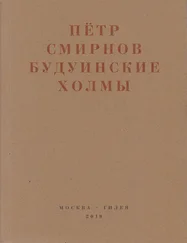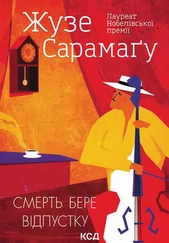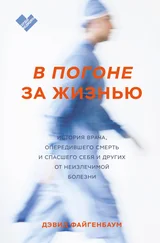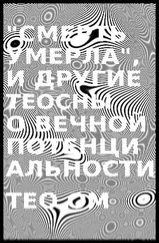Итак, разговоры о маргинализации литературы не лишены оснований. Культурное наследие позабыто. Я возвращалась домой с тяжелым сердцем. На улице Хурнсгатан я прошла мимо витрины магазина недорогой оптики. Оправы – новинки сезона – покоились на томах шведской классики в роскошных кожаных переплетах, словно пыльное напоминание о связи между очками и культурным капиталом. Точно как в мебельных шоу-румах Ikea, где книжные муляжи 1970-х годов заменяют никому не нужными фолиантами в кожаных переплетах.
Дома я пробежала взглядом по собственным книжным полкам, прикидывая, найдется ли еще место для книг, унаследованных от папы. А какую библиотеку собрала я? Специалистка в области культурсоциологии, изучающая трансформации шведской образовательной культуры, удовлетворенно качает головой. Там, где раньше красовался Гейер, теперь стоит увесистый Адорно. Там, где покоился Тегнер, утверждавший, что всякое образование основывается на принуждении, теперь расположился Беньямин. Там, где обитала Анна-Мария Леннгрен, напоминавшая о силе слабого пола, теперь обнаружилась Элен Сиксу. Там, где стоял Чельгрен, выступавший в защиту гениальной простоты, теперь стоит Барт.
Всё это напомнило мне, как однажды я купила себе первую (и пока единственную) шляпу. Я купила ее в шляпном магазине, мимо которого проходила ежедневно на протяжении как минимум десяти лет. Когда мода на шляпы прошла, владельцам магазина пришлось спешно распродавать всю коллекцию. Тогда-то я и зашла в этот магазин и решила примерить черную широкополую шляпу с лентой. Как жаль, сказала я, как жаль, что вам приходится закрываться. Вовсе нет, ответила продавщица. Совсем не плохо, знаете ли, уйти на пенсию. Я заплатила за шляпу, выбралась из магазина в современность и подумала: негоже мне предаваться ностальгии – ведь это частично и мое бесшляпное поколение виновато в том, что век модисток прошел. Сегодня в этом магазине продаются компьютерные принадлежности.
2
Если папа никогда не жаловал литературный модернизм, то сама я вскочила в последний вагон. Всё самое интересное уже случилось – это я поняла почти сразу же, как только в восьмидесятых занялась литературоведением. Нас хорошо натаскали по части классических подходов и «новой критики», в свете которых модернизм представлялся как естественный конец литературной истории. Мы штудировали ключевые тексты высокого модернизма – «Дуинские элегии» Рильке, «Бесплодную землю» Элиота, «Улисса» Джойса, «На маяк» Вулф. И делали мы это, используя категориальный аппарат, представлявший собой часть модернистской эстетики: автономия, миф, орфизм, форма, структура, письмо, избыточность, трансценденция, чистота, объективный коррелят, тематическая структура и так далее.
И только много лет спустя я поняла: несмотря ни на что, осталось еще много интересного. Просто модернистская понятийная «оптика» существенно ограничивала перспективу. Можно ли вообразить кощунство страшнее, чем писсуар Марселя Дюшана? Возможно ли найти что-то более брутальное, чем поклонение машине у Маринетти? Существуют ли более эффективные способы выхолащивания смысла, чем языковые эксперименты Гуннара Экелёфа? Эту проблему затронул Т. С. Элиот в рецензии на роман «Улисс» (1922). Трудно представить себе, утверждал поэт, что после «Улисса» Джойс сможет написать новый роман. Разве возможно превзойти этот гезамткунстверк, универсальный роман, неисчерпаемую и самогенерирующуюся систему аллегорий? И Элиот был прав – «Поминки по Финнегану» едва ли можно назвать романом.
Модернистское стремление к обновлению, разрушению канонов и эксперименту должно было в конце концов утратить свою интенсивность, разрядиться, словно аккумулятор. И когда это произошло, релятивизировалась и модернистская концепция искусства как светского ритуала, как чистой альтернативы коммерциализации языка, как поправки к утилитаристским категориям мышления, как свободной зоны подлинности в отчужденном и материалистичном мире.
Я никогда не мечтала стать литературным критиком. Однако так сложилось, что я стала писать рецензии для газеты Dagens Nyheter . Мне было двадцать четыре, я печатала на машинке двумя пальцами, и мне не хватало журналистского опыта. Первое же задание было в духе «плыви-или-тони»: рецензия на шведский перевод книги Ролана Барта о фотографии «Camera Lucida». Мне потребовался месяц, чтобы сделать статью, отвечающую заданным требованиям.
Вскоре после этого мне позвонил редактор литературного журнала Bonniers , и я получила новое задание – написать рецензию на сборник стихов известного шведского поэта. Это была типичная «проходная» книжка, но создание текста, который я сама сочла приемлемым, стоило мне шести месяцев работы и как минимум одного просроченного дедлайна. Фундаментальные вопросы критики будоражили мой ум. Каждая книга, каждый текст, каждое стихотворение представлялось загадочным сфинксом. Каждая попытка анализа, словно песчинка, подхватывалась штормовым ветром и уносилась в океан. Что такое художественный текст? Что такое перевод? Каковы критерии сравнения и оценки? Какие неписаные правила и нормы действуют в мире литературной критики? Каково это – быть женщиной-интеллектуалкой? Для кого пишет критик? И чего ради?
Читать дальше
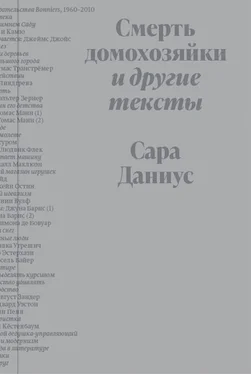

![Мишель Лебрюн - Смерть молчит [Смерть молчит. Другая жена. Коммерческий рейс в Каракас]](/books/97902/mishel-lebryun-smert-molchit-smert-molchit-drugaya-thumb.webp)