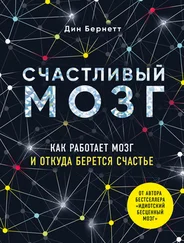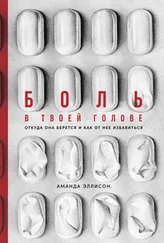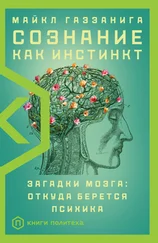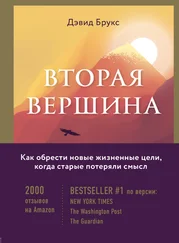Не так давно New York Times Magazine выпустил специальный религиозный номер, хитроумно озаглавленный «Религия возвращается (вера на очереди)». Умонастроения бобо замечательно отразил Фрэнсис Фукуяма в своей работе 1999 года «Великий разрыв»:
«Если раньше сообщество возникало как побочный продукт непоколебимой веры, то сегодня люди возвращаются к религии в стремлении стать частью сообщества. Иными словами, причина возвращения к религиозным традициям не обязательно в том, что люди верят в истинность откровения, но, безусловно, в том, что ослабление сообществ и мимолетность социальных связей в секуляризированном обществе порождает острую потребность в причастности к ритуалам и культурной традиции. И вот они уже помогают бедным и ближним, но не потому, что так велит религиозная доктрина, но из желания быть полезными сообществу и убедиться в том, что религиозные организации предлагают наиболее верный путь к удовлетворению этой потребности. Древние молитвы и вековые обряды они повторяют не потому, что верят, что их ниспослал Господь, но ради того, чтобы передать своим детям правильные ценности и самим испытать умиротворяющий эффект ритуала и связанное с ним ощущение соборности. Можно сказать, что саму религию они и не воспринимают всерьез. Религия становится источником обрядовости для лишившегося ритуалов общества и, таким образом, вполне объяснимым проявлением естественного стремления к причастности, присущего всем людям от рождения».
Нельзя сказать, что прихожане из бобо стараются меньше других. Посты и прочие ограничения они зачастую блюдут даже строже обычного. Однако пост в их случае не означает смирения. В прежние века верующие ощущали, что свобода каким-то парадоксальным образом достигается через полное повиновение воле Божьей, однако подобное слепое подчинение для душевного склада бобо просто неприемлемо. К примеру, среди иудеев растет движение молодых ортодоксов, которые знают иврит, изучают Тору и соблюдают кашрут. Строго следуя традициям, они при этом позволяют себе выбирать, и те из древних законов, что задевают их современные чувства – к примеру, почти все правила, ограничивающие роль женщины, – они просто не замечают. То же самое происходит, когда какие-либо из библейских установлений противоречат плюрализму, когда иудаизм преподносится как единственная истинная вера, а остальные религии – как неполноценные или ошибочные. Ортодокс без слепого следования букве и в самом деле – флексидокс.
Организованная религия, когда-то отвергнутая как безнадежно устаревший институт и опора для слабых духом, сегодня снова набирает авторитет. Упомянув за ужином свое участие в жизни церкви или синагоги, бобо ощущает легкий прилив морального удовлетворения. Это демонстрирует, что он не какой-нибудь зацикленный на себе нарцисс, а член религиозной общины. И все же религиозный дискурс изменился. Сегодня межконфессиональные диспуты, отнимавшие столько сил у теологов прошлого, выглядели бы нелепо. «Я, конечно, не религиовед, – пишет Вацлав Гавел в журнале Civilization, – но, на мой взгляд, в основных религиях куда больше общих черт, нежели готовы признать их последователи. У них общая отправная точка – что этот мир и наше в нем существование повинуется не слепому случаю, но мистическому, непреложному порядку, источник, направление и цели которого нам сложно постичь во всей полноте. Нравственные законы, налагаемые этим мистическим порядком, тоже очень похожи. На мой взгляд, совокупность всех существующих различий в этих религиях не перевесит их фундаментального сродства».
Иными словами религиозный порыв – штука гибкая и в разных культурах способна принимать различные формы. И сам этот порыв куда важнее, нежели конкретные ограничения и правила, налагаемые той или иной сектой или конфессией. Поэтому невредно и осмотреться, примерить на себя несколько религий, прежде чем сделать окончательный выбор. Можно выбрать и сразу несколько, чтобы свободно перемещаться между ними в зависимости от насущных нужд и предпочтений. Так мы примирили выбор и преданность.
Большинство считает такое примирение возможным или, по крайней мере, готово попробовать. Может, и получится. Роберт Нисбет, чья книга 1953 года «В поисках сообщества» стала предвестником сегодняшнего всеобщего интереса к подобным институтам, считал, что жить в сообществе много лучше, однако ограничивать себя одним сообществом вовсе не обязательно, а правильнее попробовать несколько. «Свобода таится в пустотах между монолитами власти и питается конкуренцией между авторитетами», – писал Нисбет. Таким образом, человек может одновременно испытывать причастность и пользоваться плодами свободы. Нисбет цитирует французского писателя Пьера Жозефа Прудона: «Умножайте связи, и будет вам свобода».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
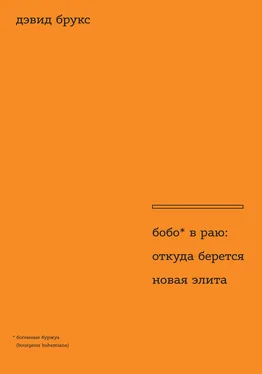


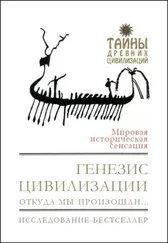
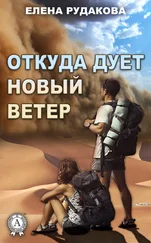
![Дэвид Райх - Кто мы и как сюда попали [Древняя ДНК и новая наука о человеческом прошлом]](/books/396012/devid-rajh-kto-my-i-kak-syuda-popali-drevnyaya-dnk-i-thumb.webp)