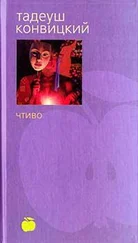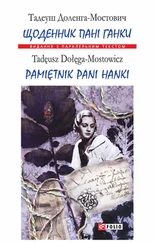Тадеуш Бреза - Лабиринт
Здесь есть возможность читать онлайн «Тадеуш Бреза - Лабиринт» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: proce, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Лабиринт
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 2
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Лабиринт: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Лабиринт»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Лабиринт — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Лабиринт», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Мы не слишком много разговариваем. И в особенности избегаем того, что угнетает меня и что угнетает его. Если уж говорим, то скорее о деревне, где у него приход, чем о причинах, по которым он временно ее покинул и засел в Ладзаретто, чтобы находиться поближе к Риму. Из сказанного им я делаю только один вывод: как я и догадывался, все действительно произошло из-за книги. Он издал ее год тому назад с одобрения своего епископа, того самого, который часто говорил, что и библиотеки являются домами божьими. Однако сочинение, которым священник Пиоланти обогатил эти дома, пришлось не по душе разным важным церковным ведомствам в Риме. Пиоланти туда вызвали.
То обстоятельство, что епископ дал согласие на издание книги, ухудшало положение Пиоланти. Считалось, что он ввел епископа в заблуждение. Пиоланти поехал в Рим, пытался защищаться, просвещал себя чтением разных трудов, а кроме того, искал помощи у людей, которые знали его с тех времен, когда он кончил семинарию, и позднее. Но пока безрезультатно. Департамент, который занимался делом Пиоланти, все реже вызывал его из Ладзаретто в Рим. Однако бедняга не терял терпения.
Держался как мог. Только тосковал о своем приходе.
И получалось так, что чаще всего мы говорили с ним о его приходе, о деревушке Сан-Систо, лежавшей в горах под Орсино.
Мы располагались в тени. Удобнее всего нам было не на самой вершине, а чуть пониже, там, где когда-то были огороды прокаженных. В давние времена весь склон был изрезан такими огородами, большие террасы громоздились здесь одна над другой.
В наши дни их частью размыло, а остальные густо заросли. Но кое-какие следы еще сохранились. Осторожно, чтобы не уколоться и не запачкать платье, мы раздвигали ветки одичавшей малины или крыжовника и вытягивались на уцелевшей террасе, как на широкой скамье.
- Как здесь чудесно, - говорил Пиоланти.
- О да, чудесно, - вторил я, как эхо.
- А в Сан-Систо!.. - начинал он тогда. - В Сан-Систо воздух в сто раз чище. И поэтому видишь все кругом, как сквозь сильные оптические стекла. Уверяю вас: кристалл!
С этого начиналось. А потом он рассказывал, что провел в Сан-Систо пять лет, и объяснял мне, что если исчислять время священнической мерой, по которой духовному лицу случается всю жизнь провести на одной должности, то пять лет-это немного.
Но Сан-Систо-его первый самостоятельный приход, и потому это большой и важный период в его жизни. К этой мысли он возвращался всякий раз. Высказывая ее, он понижал голос, опускал рыжеватую голову и довольно долго рассматривал носки своих истоптанных башмаков, покрытых овальными грубыми заплатами. Из этого я заключал, что этот важный период был, кроме того, и трудным. А когда он вновь поднимал голову, тусклое выражение его глубоко посаженных глаз убеждало меня, что это бьы равно и период горьких испытаний. Поэтому так и мыкался Пиоланти. В первый раз, когда мы заговорили о его приходе и он так загрустил, я спросил, движимый состраданием.
- Я слышал, что здесь, в городских деревушках, царит нищета. Значит, и ваш приход очень бедный?
- Бедный. Очень бедный, - ответил он.
- Оттого-то, вероятно, и тяжело там работать духовному
пастырю'-сказал я.
- Тяжело, но тяжелее всего не из-за бедности прихожан.
- А из-за чего?
- Из-за их недоверия, - прошептал священник. - Из-за недоверия.
Я удивился и попросил объяснить. Он с готовностью согласился и изложил свои мысли с непривычным для него многословием.
Правда, в первый раз я не совсем понял, что он имеет в виду. Но, поскольку мы изо дня в день возвращались к этой теме, я в конце концов разобрался.
- Они не доверяют мне по моей вине, - твердил Пиоланти. - Держатся со мной настороженно. Считают, что я вмешиваюсь не в свои дела. А как же не вмешиваться, если мне известно, что вокруг свершается великое множество преступлений, а в исповедальной я о них ничего не слышу. Сперва я думал, что люди стесняются меня и предпочитают исповедоваться у других. Да нет. В другие приходы они тем более не пошли бы. Спустя некоторое время я понял почему. Это было бы равносильно полупризнанию, означало бы, что у них есть тайны, в которых они не хотят исповедаться своему приходскому священнику.
Разобравшись в этом, я стал поучать с амвона, что, исповедуясь у меня и утаивая свои грехи, они избирают наихудшее зло. Я сказал: "Если вы собираетесь и впредь так поступать, то лучше не исповедуйтесь вовсе". Но они по-прежнему приходили. Хотя с этого времени еще меньше доверяли мне, потому что приняли мои слова за ловушку, расценили их как коварный прием, с помощью которого я пытаюсь установить, кто из людей втайне от меня пребывает не в ладах с законом. А зачем? Разве я не исповедник, а судебный следователь, что они так остерегаются меня, боятся открыть передо мною душу?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Лабиринт»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Лабиринт» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Лабиринт» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.