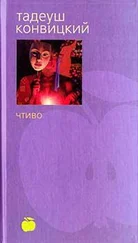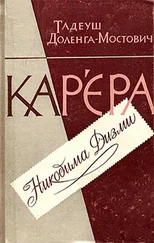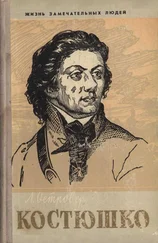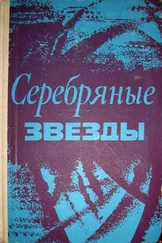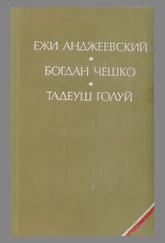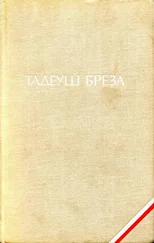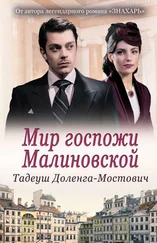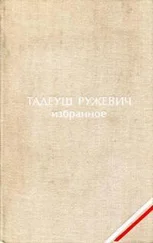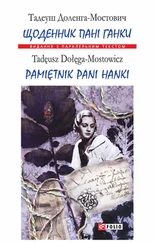В перерывах, то есть между часами, проведенными в читальне, и часом в отделе каталогов, - лоджия, а в ней священник из Сан-Систо. Его имя и фамилия дон Евгений Пиоланти. Он представился мне, а я ему. Я прихожу в библиотеку раньше, чем он. Пиоланти появляется значительно позднее. Вскоре он объяснил мне почему: живет далеко. Ему приходится ехать до Термини поездом, а оттуда автобусом. Дорога отнимает полтора часа. Уйдя из библиотеки, он выпивал кофе с молоком, съедал булку и какие-нибудь фрукты-он привозил их с собой, - после чего пускался в обратный путь. Обо всем этом он мне рассказал. А когда я пригласил его обедать, он даже продемонстрировал сверток с булкой и фруктами и термос с кофе. Произошло это на третий день после отъезда Кампилли. Я чувствовал себя немного одиноким, и мне было бы приятно общество Пиоланти, но он не принял приглашения. Извлек свои запасы в доказательство, что еда у него есть.
В первый день, когда я разговаривал с Пиоланти, еще не вспомнив, откуда его знаю, он показался мне загадочным, а его слова не лишенными намеков. Высказывался он тогда сдержанно, спрашивал кратко. Но назавтра, после того как я первый ему поклонился, а потом, в лоджии, подошел к нему и он разговорился со мной, таинственность исчезла. Должно быть, он был из робких и, безусловно, такой же одинокий, как и я. Он нуждался в собеседнике, встретил меня и, однажды себя переломив, стал обыкновенным священником из глухой провинции, который застрял в городе на более долгий срок, чем предполагал, и уже начинал томиться. Тогда же он упомянул, что торчит здесь уже пять месяцев. Столкнувшись с ним в лоджии и поздоровавшись как с добрым знакомым, я произнес какую-то пустую фразу относительно жары, а затем спросил, не надоело ли ему в Риме.
Он покраснел. Развел руками. Однако на мой вопрос не ответил.
Вместо этого он сказал:
- Я остановился в Ладзаретто. Вы слышали о Ладзаретто?
Я не слышал.
- Это бывший лепрозорий, старый поселок для прокаженных.
Расположен он прямо к северу от Рима, на склонах Агуццо, высота небольшая, но все-таки воздух там лучше, чем здесь.
О причинах, удерживающих его в Риме, он не упоминал и не сказал больше ни слова о Сан-Систо под Орсино. Разве только, что его приход находится в гористой местности. Зато о своем Ладзаретто говорил много. В средние века каждого подозреваемого в том, что у него проказа, загоняли в такие поселки, их было много на территории Италии, да и в других странах. Сегодня одно только Ладзаретто сохранило старое название, хотя вот уже несколько веков, как оно не служит прибежищем для прокаженных. Из прежних сооружений там сохранилась церковь Лазаря из Евангелия от святого Луки и монастырский приют для странников. Даже местные жители не помнили его происхождения. Они называли приют монастырем, добавляя, что монастырь был строгого устава; этим, по их мнению, объяснялось то, что из приюта не было хода в церконь- ничего, кроме узкого отверстия в метр длиной, через которое священник давал причастие зараженным.
- Да и то не всякий священник, - сказал дон Пиолапти, - а только такой, у которого хватало на это смелости.
- В "Декреталиях" Григория Девятого, - заметил я, - есть абзац, посвященный прокаженным.
- Значит, вы человек ученый, если это знаете, - похвалил он меня. - Я только в связи с Ладзаретто собрал сведения, которыми делюсь с вами. Проказа была страшно заразная. Л попытки бороться с ней или помешать ее распространению тоже ужасны.
Зараженного не впускали в церковь, над ним, как над усопшим, служили панихиду. Он слушал ее, лежа, как труп, со скрещенными на груди руками. Потом вставал, стряхивал с головы и ног землю, которой их посыпали, но домой, к своим, больше не возвращался. Был ли он родом из города или из деревни, его вычеркивали из списка живых. Имущество ею переходило к наследникам. Он не имел права наследования, не мог выступать свидетелем, не мог составить завещания, поскольку прокаженных причисляли к умершим внезапной смертью. С течением времени обычай смягчился, и прокаженному даже разрешалось выходить за пределы лепрозория. Но при этом больной обязан был носить специальную одежду, чтобы каждый издалека видел, с кем имеет дело, и стучать колотушкой, предостерегая здоровых, что приближается человек, тронутый заразой. Все отчаянно боялись прокаженных, потому что в средние века суровая кара грозила и тому, кто сознательно или по неведению к ним прикоснулся. Иногда, особенно во время особой паники, такой человек был вынужден впредь разделять судьбу прокаженных.
Читать дальше