— Получается, что да, — кивнул мельник, на лице мелькнула снисходительная усмешка.
— Там советская власть от силы, раза два побывала, не больше. — Комиссар внимательно посмотрел на мельника.
— Мне в Хитрово попасть надо, ведь должна быть еще дорожка, покороче, напрямик?
— Должна.
— И ты, конечно, знаешь её?
— Сын лучше знает, у него там зазноба живет.
— Где сын?
— Тута я, — отозвался рядом с мельником, высокий широкоплечий юноша, очень похожий на отца.
— Молодец, сознательный элемент. Проведешь нас?
Мельник покосился на сына.
— Проведи, комиссара уважить надо, за народ он, понимаешь?
— Понимаю, так ведь это через лес надо, куда они с гружеными телегами?
— Груженые, по тракту, в город поедут, а мы налегке, с одним пустым возом. Не проедем? — спросил комиссар.
— С пустым, проедете, — согласился сын мельника.
— Вот и ладненько, — комиссар пошел к солдатам, отдавать распоряжения.
— Семенов, ты с возами в город. А я, с пустым, хочу в Хитрово наведаться. — Комиссар оглядел своих солдат.
— Так, со мной пойдут: Кузьмич, Студент и Карпенко.
— Есть, — троекратно отозвались названные.
— Как пойдем?
— Через Багровый лес, — ответил сын мельника.
Стоящий рядом отец, улыбнулся и похлопал своего отпрыска по саженному плечу.
Воз трясло, он часто подпрыгивал, дребезжа на многочисленных кочках. Лесная дорога, едва различимая, о которой можно было сказать, что ее вообще не было, часто петляла, огибая широкие стволы старых кряжистых сосен, мелькающих меж ними, редких белых стволов берез. По краям тропы рос то густой малинник, то непроходимый орешник.
Сын мельника, Ваня, сидел рядом с комиссаром, впереди и правил послушным старым мерином.
— Далеко до Хитрово? — спросил, позевывая, комиссар.
— Как в дубовую рощу въедем, так за ней уже и Хитрово будет. Там и отпустить меня можете, комиссар товарищ Максим Строгов. — Сын мельника улыбнулся комиссару.
— Свою зазнобу навестить не хочешь? До Хитрово довезешь, — усмехнулся Строгов.
Сын мельника больше не пробовал заговорить, а бывший экс-матрос, подложив под бок сена, тихонько затянул: «Раскинулось море широко и волны бушуют у скал, товарищ, мы едем далеко…»
На корме тряслись Кузьмич, Карпенко и Студент.
Иван Кузьмич Щербаков, являлся человеком мудрым и самостоятельным в житейских вопросах. Он успел много увидать, когда повоевал и в 1-ую, и в гражданку, против Колчака. Почти вся сознательная жизнь прошла на фронтах и в армиях: белой, потом красной. Как результат ни семьи, ни родни, одним словом бобыль — с задорным, вздернутым носом, длинными пшеничными усами, прокопченными табаком, грустными слегка прищуренными глазами. У него была медленная плавная речь, заполненная короткими паузами. «Человек должен подумать, а потом слово сказать». - говорил он, пыхтя самокруткой.
Между Кузьмичом и Студентом, опрокинувшись навзничь, лежал Петр Иванович Карпенко. Он был из Губернских волонтеров-добровольцев и по характеру был полной противоположностью Кузьмича. Петр Карпенко имел семью: жену и двоих детей, к его «несчастью» это были дочки. К несчастьям он также причислял наличие тещи и тестя, большой земельный участок и дом, возле железнодорожного полотна, подпрыгивающий, как курица, на насесте, от частого движения паровозов. Немного ленивый, глуповатый и нагловатый, а в общем спокойный и толерантный. Уже плешивую голову всегда скрывала кожаная кепка. Полные щеки и припухлый подбородок прикрывали трехдневная, еще не модная в то время, щетина. Гордый римский нос, был, чуть свернут, в сторону, после неудачного падения с дрезины, которой правил пьяный тесть — потомственный железнодорожник. После этого случая он любил говорить: «Тише едешь, дольше будешь».
Студентом несколько лет назад был долговязый, светловолосый и курчавый парень с тонким, иконописным, лицом. Вихрь революции сорвал его с первого отделения филологического курса славного Петроградского-Питерского университета. Позднее кронштадские матросы прилепили ему прозвище, как наиболее грамотному — Студент. «Уже не вечный» — отшучивался Юлиан Октавианович Сидоров. Имя было не бедой, а горем Студента. Буржуйское имя — Юлиан, непонятное отчество — Октавианович, которого он тоже стыдился, и все прикреплено к нормальной пролетарской фамилии — Сидоров. На все насмешки революционно настроенных масс по поводу своего имени и отчества Студент с гордостью отвечал, что его папа сталевар, это самая пролетарская профессия, и не его вина, что папе пролетарию нравилась еще с гимназии история древнего Рима.
Читать дальше
![Валерий Строкин История с Малыми Тмутараканями [СИ] обложка книги](/books/402570/valerij-strokin-istoriya-s-malymi-tmutarakanyami-si-cover.webp)

![Валерий Строкин - Джунгли [СИ]](/books/402565/valerij-strokin-dzhungli-si-thumb.webp)
![Валерий Строкин - Путешествие в зазеркалье [СИ]](/books/402566/valerij-strokin-puteshestvie-v-zazerkale-si-thumb.webp)

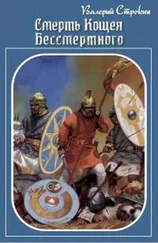
![Валерий Строкин - Коррида со смертью [СИ]](/books/402572/valerij-strokin-korrida-so-smertyu-si-thumb.webp)
![Валерий Строкин - Ночная сказка для двоих [СИ]](/books/402574/valerij-strokin-nochnaya-skazka-dlya-dvoih-si-thumb.webp)
![Валерий Строкин - Сказка о маленькой девочке и Белом Рыцаре [СИ]](/books/402575/valerij-strokin-skazka-o-malenkoj-devochke-i-belom-thumb.webp)
![Валерий Строкин - Иван-Царевич — Иван-Дурак, или Повесть о молодильных яблоках [СИ]](/books/402576/valerij-strokin-ivan-carevich-ivan-thumb.webp)
![Валерий Строкин - Земля обетованная [СИ]](/books/402577/valerij-strokin-zemlya-obetovannaya-si-thumb.webp)
![Валерий Строкин - Похищение Елены [СИ]](/books/402579/valerij-strokin-pohichenie-eleny-si-thumb.webp)