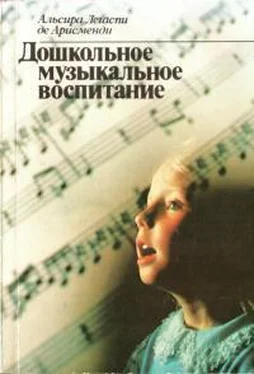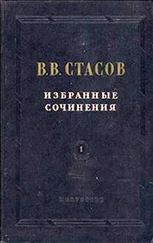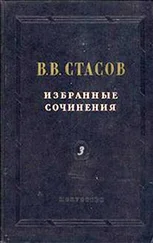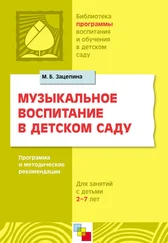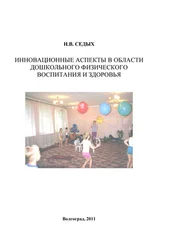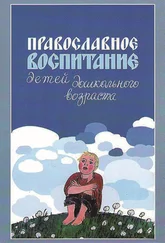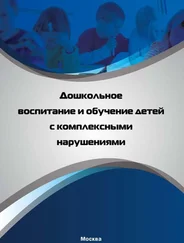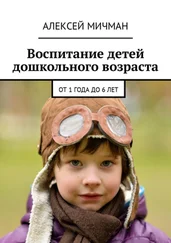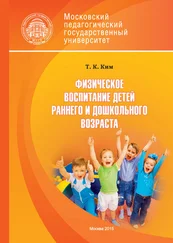Однако, как это показывают специальные психологические исследования, восприятие людей друг другом идет в принципе по тем же законам, по которым вообще происходит человеческое восприятие — будь то восприятие звучащей мелодии, зрительного образа или личности другого человека. В случае восприятия человека человеком начинается особого рода личностное взаимодействие, подключающее эмоциональный, логический и т. д. опыт каждого из партнеров по общению. В результате этого у каждого воспринимающего создается представление о личности собеседника. Конечно, мы еще очень мало знаем о таких процессах, как структурирование личности другого человека по первому впечатлению воспринимающего, как изменение и совершенствование восприятия при общении, что в немалой степени зависит от личностного развития самого воспринимающего и т. п. Читатель вправе возразить, что это слишком разные и далекие вещи: восприятие личности другого человека и восприятие слышимого звука. Верно, дистанция здесь огромная. Однако законы нашей психической деятельности — едины. Активный характер восприятия, пластичность психики, ее способность к уподоблению,— все это служит построению особого рода ориентирующих образов, создавая которые человек не только ориентируется в окружающем его мире, но и сам развивается.
Зачем нам понадобилось отступить от конкретных вопросов музыкального восприятия и обратиться к большим проблемам современной науки, пытающейся понять природу восприятия, роль деятельности в нем, психологию общения с его категорией «другого» и т. д.? Мы сделаем это специально, ибо, как ни далеко отстоят друг от друга восприятие ребенком новой мелодии и восприятие человека человеком, они, однако, многое могут объяснить, если рассматривать их в целостной картине психической деятельности, где одно существует не рядом с другим, а в другом и через другое.
Итак, вернемся к действию пропевания. Как конкретно Арисменди предлагает развивать у детей способность к восприятию и воспроизведению слышимой музыки? Воспитателю детского сада даются совершенно конкретные советы, касающиеся «процедуры» или технологии формирования звуковысотного слуха: учить детей сначала петь тихо, «выверяя» свое пение по голосу поющего взрослого. Далее, учить ребенка интонировать или воспроизводить голосом мелодию до того, как он узнает слова песни. Особенно важно, подчеркивает автор, учить ребенка не только пропевать или подпевать, но и сравнивать звучание голоса воспитателя со звучанием музыкального инструмента, свое пение с пением других детей и т. д. Осваивая определенные упражнения, образующие особую систему, ребенок постепенно учится управлять своим голосом, достигать нужного звучания. При этом педагог должен непременно учитывать возрастные особенности детей как в плане физиологическом (в том числе и состояние голосовых связок), так и в плане индивидуальных интересов и склонностей. А потому, как утверждает автор, занятия должны быть веселыми, проходить в форме игр. При этом качество отбираемых песен, их музыкальные и поэтические достоинства должны быть самыми высокими. Здесь автор ратует за сотрудничество педагога с композиторами и поэтами при создании музыкальных произведений для детей.
Автор останавливает внимание читателя на том, что не только качество самой музыки должно быть по-настоящему высоким. Правильно указывается и на то, что сами инструменты, которые воспитатели дают в руки маленькому ребенку, должны обладать не плохим, не средним, но лучшим качеством: кастаньеты должны быть сделаны из дерева, бубны и тамбурины — из кожи, тарелки — из бронзы. То есть необходимо делать все возможное, чтобы у детей развивался хороший вкус и к характеру звучания, и к самим музыкальным произведениям.
Несомненное достоинство книги Альсиры Легаспи де Арисменди состоит в том, что практическими советами автора могут воспользоваться и воспитатели, и те, кто создает программы для музыкальных занятий в наших детских садах, и, конечно, родители. Хотелось бы подчеркнуть еще один весьма ценный аспект этой работы: и Арисменди, и авторы, на которых она ссылается (3. Кодай и др.), по сути дела, конкретно разрабатывают и тем самым обогащают один из сложнейших и еще далеко недостаточно разработанных в современной науке методов — метод в высшей степени перспективный и нужный прежде всего для практики. Этот метод носит название «формирующий или генетико-моделирующий». Он открывает для психолога и педагога возможность активно и сознательно участвовать в формировании тех или иных способностей растущего человека. На чрезвычайную перспективность этого метода и вместе с тем его столь же чрезвычайную важность указывали и Ж. Пиаже, и Л. Выготский, а в наши дни П. Гальперин, показавшие, какие огромные потенциалы для развития ребенка несет в себе этот метод при условии его применения во всех видах и формах дошкольного и школьного обучения.
Читать дальше