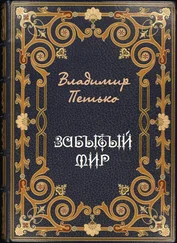Бобер уезжал и возвращался. Смотрел на Бобровку тяжелым взглядом, все чаще останавливая его на Юли. Так, что она смущалась и отводила глаза.
Потом стал быстрее возвращаться. Потом перестал уезжать.
А потом вдруг к сильному удивлению монаха (Кориату-то было наплевать, лишь бы весело!) подсел к столу.
Что за черт?!
А потом еще пуще — затащил монаха и Кориата в свою горницу. Зачем?!
Оказывается, чтобы с ними за стол села Юли. Тут только понял отец Ипат, да что теперь он мог поделать? Поздно...
Старый Бобер — это, правда, по тем временам старый, а по нашим-то что -53 года, да и старше Кориата на 9 всего лет, да если разобраться и сравнить с Гедиминовичами, то и по тем меркам не старый, это просто вид у него был такой: седой, длинногривый, длинноусый, огромный, важный, неторопливый — так вот: старый Бобер влюбился.
Он призвал Юли к себе, сказал, что заберет у Кориата, сделает свободной, если захочет — женой, даст долю наследства, не в ущерб Мите, конечно. Ну, все это, если она не против, разумеется.
Никогда никому Бобер таких слов не говорил, потому и смотрел при этом в землю, а когда осмелился поднять глаза, увидел ее слезы, эти слезы из орлиных глаз, непривычных к слезам, и замер — что?!
Она подошла, взяла обеими руками его огромную ладонь и со стоном повалилась на колени.
Он подхватил ее, как пушинку, поставил на ноги, придержал:
— Что?!
— Ох! Горе, горе! Казни меня, воевода, только не скажи никому!
— Что?!!
— Ты здесь — бог. Не по силе и не по званию. А по справедливости, честности твоей. По уважению к тебе людей твоих. По тому, что по правде живешь. И всех так жить приучаешь. И Митю! И я лгать тебе не могу!
— Да что?!!
— Прости! И прими спокойно! Митю, внука твоего, люблю я без памяти и никого, кроме него, знать не могу!
— Да разве ты его знаешь?!
— Знаю, воевода... С того его ранения знаю... Помнишь? Простит мне Господь!
— А Кориат?!
— Кориата я и обману, да к Мите убегу, а тебя... Стань я твоею, тебя обманывать не смогу. Тогда мне Мити не видать! А без него мне не жить!
Бобер долго безумно, бездумно смотрел сквозь нее, потом тряхнул головой по-бобриному, очухиваясь, и пошел прочь, и ускакал на лесной кордон.
Какой мужчина не взбеленится при отказе? Да еще таком, где его просто не могло быть! А уж поживший и себя уважающий тем более...
Бобер взбесился. Хотя и ненадолго, но сильно. Настолько сильно, что остановил Кориатово с монахом непотребство и выпроводил загостившегося зятя вон. Вместе с Юли, разумеется.
И почему-то — уж этого не совсем еще очухавшийся Кориат никак уварить не мог, — с требованием немедленно женить Дмитрия. Кориат обалдело и непривычно трезво глядел на тестя, встряхивал, подражая ему, головой, не понимал:
— Зачем?! Ведь у него невеста есть. Неслабая! Самого Великого князя Московского племянница.
— Это все разговоры, давние разговоры и бред. Сколько лет прошло! В Москве небось уж и думать забыли о твоем сватовстве. А парню пятнадцать лет стукнуло, он на стенку уже лезет!
— Уже лезет?! В меня!!!
— В кого ж еще! Женить его надо. А московская княжна — чушь!
— Не спеши, отец, может, и не чушь... Московиты в слове крепки. Торопиться не надо, пусть потерпит. Найди ему что-нибудь...
Когда Кориат называл Бобра отцом, у того что-то подламывалось в груди, сразу хотелось тихонько, по-детски заплакать. И сейчас...
— Князь! Сколько мы с тобой уже отрока этого бережем? Сколько горя из-за него хлебнули! Разве я ему... и тебе... плохого хочу!
— А я! Я, что ли, ему плохого хочу?! Ты что! Не твоя только это гордость, а и моя тоже! Я хочу ему так сделать... — Кориат стукнул кулаком о кулак, -...чтобы!.. Не спеши! — и вышел, чуть ли дверью не хлопнув, и в тот же день собрался и уехал, не разбудив монаха, не опохмелившись, и забрав враз постаревшую, поблекшую, закутавшуюся в большую серую шаль Юли.
Наступил 6861 год (с 1 марта 1353 г). Страшный год! Опять! В то время нестрашных годов было мало, но этот...
Черная смерть! Она вырвалась из степи и поползла по Руси все дальше и дальше, все ближе к Европе, а к Литве подобралась с двух сторон: от татар с юга и от русичей с севера, из Плескова.
Вообще, Литва умела бороться с болезнями. По мнению литвин, болезни шли от бродяг и чужих богов, и когда сильно обозначались (со страхом не поспоришь!) быстро возвращали в старую отцовскую веру множество окрестившихся литвин, да и не литвин тоже, прямо пропорционально размерам бедствия.
Уже зимой 6860-го (1352 год), прознав о надвигающемся бедствии, многие кинулись к дубовым колодам Перкунаса. Только Бобровка, в великом угаре Кориатова веселья не ведавшая, что вокруг творится, оставалась беспечной.
Читать дальше